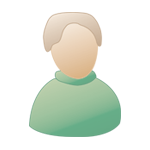Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 25.12.2007, 0:01 25.12.2007, 0:01
Сообщение
#1
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Уважаемые форумчане!
Приглашаю принять участие в обсуждении моей новой книги "«Мастер и Маргарита»: прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом", посвященной подробному разбору книги Альфреда Баркова "Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение ". Для удобства полемики, рубрикация основных разделов моей работы совпадает с рубрикацией работы Баркова. В каждом разделе его труда мною выделены и рассмотрены все основные, существенные для его выводов тезисные цитаты, критике и разбору которых и посвящена моя книга. Напоминаю, что данная тема открыта для обсуждения моей книги и книги Альфреда Баркова. Лучшим ответом мне и лучшей защитой теории основоположника альтернативного прочтения будут не славословия в адрес Баркова и не поливание меня бранью, а доказательное опровержение основных положений моей книги. При обсуждении прошу указывать соответствующий номер тезиса или раздела, это упростит чтение темы в дальнейшем. Так же прошу, обязательно указывать источники, на основании которых опровергается мое мнение. С уважением Сергей Цыбульник (tsa) -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
 tsa Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:01
tsa Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:01
 tsa «Мастер и Маргарита»: прогулки с Барковым или путе... 25.12.2007, 0:02
tsa «Мастер и Маргарита»: прогулки с Барковым или путе... 25.12.2007, 0:02
 tsa RE: Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:08
tsa RE: Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:08
 tsa I. В тупике стереотипов
Глава I. "Торжестве... 25.12.2007, 0:09
tsa I. В тупике стереотипов
Глава I. "Торжестве... 25.12.2007, 0:09

 ФИЛ Несомненно, Иешуа не раз предлагал Левию уничтожит... 19.1.2008, 10:19
ФИЛ Несомненно, Иешуа не раз предлагал Левию уничтожит... 19.1.2008, 10:19

 tsa Небольшая ремарка.
Волновало Иешуа содержание перг... 20.1.2008, 13:11
tsa Небольшая ремарка.
Волновало Иешуа содержание перг... 20.1.2008, 13:11

 Пьерро чтобы не затянуть его с собой на лобное место,
... 20.1.2008, 14:47
Пьерро чтобы не затянуть его с собой на лобное место,
... 20.1.2008, 14:47


 ФИЛ ФИЛ прав, Иешуа и пугало, и тревожило то , что Лев... 20.1.2008, 17:51
ФИЛ ФИЛ прав, Иешуа и пугало, и тревожило то , что Лев... 20.1.2008, 17:51


 Пьерро Начал за здравие, а кончил...
Ещё раз повторяю ни ... 20.1.2008, 22:56
Пьерро Начал за здравие, а кончил...
Ещё раз повторяю ни ... 20.1.2008, 22:56

 ФИЛ Насчет справедливости спорить не буду, но покой мн... 20.1.2008, 18:06
ФИЛ Насчет справедливости спорить не буду, но покой мн... 20.1.2008, 18:06
 tsa Глава II. Мастер – имя нарицательное
«Большевики... 25.12.2007, 0:43
tsa Глава II. Мастер – имя нарицательное
«Большевики... 25.12.2007, 0:43
 Zep Друзья, в теме приветствуется только здоровая крит... 25.12.2007, 14:23
Zep Друзья, в теме приветствуется только здоровая крит... 25.12.2007, 14:23
 tsa
Напоминаю, что слово «мастер» Булгаков начал исп... 25.12.2007, 14:43
tsa
Напоминаю, что слово «мастер» Булгаков начал исп... 25.12.2007, 14:43
 tsa
Пьеса «Батум» ни в коем случае не являлась заказн... 25.12.2007, 14:53
tsa
Пьеса «Батум» ни в коем случае не являлась заказн... 25.12.2007, 14:53
 tsa
Как я уже отмечал (см. тезис I.II.1), изначально,... 25.12.2007, 14:57
tsa
Как я уже отмечал (см. тезис I.II.1), изначально,... 25.12.2007, 14:57
 tsa
С точки зрения не менее истинного и великого рус... 25.12.2007, 15:06
tsa
С точки зрения не менее истинного и великого рус... 25.12.2007, 15:06
 tsa
С идейной направленностью своего романа Булгаков... 25.12.2007, 15:15
tsa
С идейной направленностью своего романа Булгаков... 25.12.2007, 15:15
 tsa
Надеюсь, читатель уже понял, что пересмотре нужд... 25.12.2007, 16:21
tsa
Надеюсь, читатель уже понял, что пересмотре нужд... 25.12.2007, 16:21
 tsa
Возможно воспаленному маниакальной гэбистской под... 25.12.2007, 18:37
tsa
Возможно воспаленному маниакальной гэбистской под... 25.12.2007, 18:37
 tsa
Единственное, с чем можно согласиться, так это с ... 25.12.2007, 18:42
tsa
Единственное, с чем можно согласиться, так это с ... 25.12.2007, 18:42
 tsa
Одно из немногих здравых рассуждений. Но при чем ... 25.12.2007, 18:44
tsa
Одно из немногих здравых рассуждений. Но при чем ... 25.12.2007, 18:44
 tsa
Барков, не затрудняя себя лично изучением черновы... 25.12.2007, 18:49
tsa
Барков, не затрудняя себя лично изучением черновы... 25.12.2007, 18:49
 tsa
Как мы убедились при рассмотрении предыдущего тез... 25.12.2007, 18:57
tsa
Как мы убедились при рассмотрении предыдущего тез... 25.12.2007, 18:57
 tsa Глава III. От Ивана Николаевича до Иванушки, или П... 25.12.2007, 19:13
tsa Глава III. От Ивана Николаевича до Иванушки, или П... 25.12.2007, 19:13
 tsa
Баркову был бы смысл [color=#000080]«попристальне... 25.12.2007, 19:46
tsa
Баркову был бы смысл [color=#000080]«попристальне... 25.12.2007, 19:46
 tsa
Доводы Баркова о превращении Ивана в Иванушку в ... 25.12.2007, 20:19
tsa
Доводы Баркова о превращении Ивана в Иванушку в ... 25.12.2007, 20:19
 tsa
Барков жонглирует словами и понятиями как заправс... 25.12.2007, 20:26
tsa
Барков жонглирует словами и понятиями как заправс... 25.12.2007, 20:26
 tsa
Почудившуюся Баркову трезвость мысли Бездомного п... 25.12.2007, 20:34
tsa
Почудившуюся Баркову трезвость мысли Бездомного п... 25.12.2007, 20:34
 tsa
Опять передергивание. Далеко не все арестованные ... 25.12.2007, 20:42
tsa
Опять передергивание. Далеко не все арестованные ... 25.12.2007, 20:42
 tsa
Как могут быть талантливы стихи об Иисусе, написа... 25.12.2007, 20:48
tsa
Как могут быть талантливы стихи об Иисусе, написа... 25.12.2007, 20:48
 tsa
Кто здесь виноват – КГБ, советская власть, или со... 25.12.2007, 20:55
tsa
Кто здесь виноват – КГБ, советская власть, или со... 25.12.2007, 20:55
 tsa Глава IV. «Это ты ли, Маргарита?»
«<…> в г... 25.12.2007, 21:00
tsa Глава IV. «Это ты ли, Маргарита?»
«<…> в г... 25.12.2007, 21:00
 tsa
Художественный стиль начала второй части характер... 25.12.2007, 21:09
tsa
Художественный стиль начала второй части характер... 25.12.2007, 21:09
 tsa
Да какой же писатель считает свое произведение не... 25.12.2007, 21:18
tsa
Да какой же писатель считает свое произведение не... 25.12.2007, 21:18
 tsa
Действительно смешно, настолько смешно, что даже ... 26.12.2007, 0:28
tsa
Действительно смешно, настолько смешно, что даже ... 26.12.2007, 0:28
 tsa
Барков явно не понимает принципиальную разницу м... 26.12.2007, 14:49
tsa
Барков явно не понимает принципиальную разницу м... 26.12.2007, 14:49
 tsa
Во-первых, все эти слова Маргарита произносит нах... 26.12.2007, 20:24
tsa
Во-первых, все эти слова Маргарита произносит нах... 26.12.2007, 20:24
 tsa
Оставаясь в образе ведьмы, Маргарита действитель... 27.12.2007, 21:04
tsa
Оставаясь в образе ведьмы, Маргарита действитель... 27.12.2007, 21:04
 tsa
К сожалению распаленное нечистоплотное воображен... 27.12.2007, 23:41
tsa
К сожалению распаленное нечистоплотное воображен... 27.12.2007, 23:41
 tsa
В романе нет никаких утверждений об идентичности ... 27.12.2007, 23:57
tsa
В романе нет никаких утверждений об идентичности ... 27.12.2007, 23:57
 tsa
Глубокомысленный анализ Барковым факта именования... 28.12.2007, 0:04
tsa
Глубокомысленный анализ Барковым факта именования... 28.12.2007, 0:04
 tsa Глава V. «Верная, вечная …»
«Да отрежут лгуну ег... 29.12.2007, 15:41
tsa Глава V. «Верная, вечная …»
«Да отрежут лгуну ег... 29.12.2007, 15:41
 tsa
Для Булгакова финский нож символизирует быстроту... 29.12.2007, 15:43
tsa
Для Булгакова финский нож символизирует быстроту... 29.12.2007, 15:43
 tsa
Напомню, что последняя жена Булгакова – Елена Сер... 29.12.2007, 15:49
tsa
Напомню, что последняя жена Булгакова – Елена Сер... 29.12.2007, 15:49
 tsa
Заумные рассуждения Баркова наводят только на одн... 29.12.2007, 15:53
tsa
Заумные рассуждения Баркова наводят только на одн... 29.12.2007, 15:53
 tsa Глава VI. Поцелуй вампира
«Хотелось бы, чтобы чи... 29.12.2007, 15:58
tsa Глава VI. Поцелуй вампира
«Хотелось бы, чтобы чи... 29.12.2007, 15:58
 tsa
Утверждение Баркова, что Мастер и Маргарита стали... 29.12.2007, 16:03
tsa
Утверждение Баркова, что Мастер и Маргарита стали... 29.12.2007, 16:03
 tsa
Пристрастие бывшего кагэбиста к вампирам выгляди... 29.12.2007, 16:08
tsa
Пристрастие бывшего кагэбиста к вампирам выгляди... 29.12.2007, 16:08
 tsa На этом я позволю себе взять тайм-аут на некоторое... 29.12.2007, 16:18
tsa На этом я позволю себе взять тайм-аут на некоторое... 29.12.2007, 16:18
 tsa II. Система ключей в романе
Глава VII. Криптогра... 8.1.2008, 18:23
tsa II. Система ключей в романе
Глава VII. Криптогра... 8.1.2008, 18:23
 евгений А кто дилетант ? Вы? Или Барков --- ныне умерший. ... 8.1.2008, 22:50
евгений А кто дилетант ? Вы? Или Барков --- ныне умерший. ... 8.1.2008, 22:50

 tsa А кто дилетант? Вы? Или Барков --- ныне умерший.
В... 8.1.2008, 23:15
tsa А кто дилетант? Вы? Или Барков --- ныне умерший.
В... 8.1.2008, 23:15
 евгений Вы же сами писали, что он Вас нашёл в номере без а... 9.1.2008, 0:57
евгений Вы же сами писали, что он Вас нашёл в номере без а... 9.1.2008, 0:57

 tsa Вы же сами писали, что он Вас нашёл в номере без а... 10.1.2008, 16:34
tsa Вы же сами писали, что он Вас нашёл в номере без а... 10.1.2008, 16:34
 tsa
Как мы уже отмечали (см. тезис I.I.4), самый вымы... 10.1.2008, 18:27
tsa
Как мы уже отмечали (см. тезис I.I.4), самый вымы... 10.1.2008, 18:27
 tsa
Как мы уже поняли, подобные безапелляционные утве... 10.1.2008, 19:27
tsa
Как мы уже поняли, подобные безапелляционные утве... 10.1.2008, 19:27
 tsa
Незнание не освобождает от ответственности за амб... 10.1.2008, 20:04
tsa
Незнание не освобождает от ответственности за амб... 10.1.2008, 20:04
 ФИЛ Приветствую Вас ,Сергей. Абсолютно верно,что взяли... 11.1.2008, 12:31
ФИЛ Приветствую Вас ,Сергей. Абсолютно верно,что взяли... 11.1.2008, 12:31

 tsa не уверен,правда,что Барков искренне заблуждающийс... 11.1.2008, 13:01
tsa не уверен,правда,что Барков искренне заблуждающийс... 11.1.2008, 13:01
 ФИЛ Возможно Вы правы.. Взгляд Баркова на родственную ... 11.1.2008, 13:29
ФИЛ Возможно Вы правы.. Взгляд Баркова на родственную ... 11.1.2008, 13:29

 tsa Возможно Вы правы.. Взгляд Баркова на родственную ... 11.1.2008, 14:28
tsa Возможно Вы правы.. Взгляд Баркова на родственную ... 11.1.2008, 14:28
 tsa Глава VIII. К вопросу об "антисемитизме... 12.1.2008, 15:00
tsa Глава VIII. К вопросу об "антисемитизме... 12.1.2008, 15:00
 Vendi Так этот графоман еще и антисемит! :mellow: 12.1.2008, 20:03
Vendi Так этот графоман еще и антисемит! :mellow: 12.1.2008, 20:03

 tsa Так этот графоман еще и антисемит!
Я бы не дел... 12.1.2008, 20:22
tsa Так этот графоман еще и антисемит!
Я бы не дел... 12.1.2008, 20:22
 tsa
Забавно, что занимаясь добросовестным разбором да... 12.1.2008, 20:26
tsa
Забавно, что занимаясь добросовестным разбором да... 12.1.2008, 20:26
 tsa
Я далеко не в восторге от уровня комментариев В.... 12.1.2008, 20:30
tsa
Я далеко не в восторге от уровня комментариев В.... 12.1.2008, 20:30
 tsa
Как мы уже успели убедиться, при действительно вн... 12.1.2008, 20:32
tsa
Как мы уже успели убедиться, при действительно вн... 12.1.2008, 20:32
 tsa
Своими словами Булгаков, наоборот, подчеркивает, ... 12.1.2008, 21:45
tsa
Своими словами Булгаков, наоборот, подчеркивает, ... 12.1.2008, 21:45
 tsa
Слова Пилата, обращенные к Каифе совершенно естес... 12.1.2008, 21:47
tsa
Слова Пилата, обращенные к Каифе совершенно естес... 12.1.2008, 21:47
 tsa
Скоропалительно перестроившись из активного присл... 16.1.2008, 21:41
tsa
Скоропалительно перестроившись из активного присл... 16.1.2008, 21:41
 ФИЛ В художественных произведениях герой часто попадае... 16.1.2008, 21:58
ФИЛ В художественных произведениях герой часто попадае... 16.1.2008, 21:58

 tsa Просто блестяще, Сергей...снимаю шляпу.
Спасибо, В... 16.1.2008, 22:08
tsa Просто блестяще, Сергей...снимаю шляпу.
Спасибо, В... 16.1.2008, 22:08

 Vendi Если признать Пилата преступником, то придется при... 17.1.2008, 1:49
Vendi Если признать Пилата преступником, то придется при... 17.1.2008, 1:49
 tsa
Иуда казнен именно так, как испокон веку казнят п... 16.1.2008, 22:50
tsa
Иуда казнен именно так, как испокон веку казнят п... 16.1.2008, 22:50
 tsa
Булгаковский Пилат не предавал Иешуа, поэтому нет... 16.1.2008, 23:32
tsa
Булгаковский Пилат не предавал Иешуа, поэтому нет... 16.1.2008, 23:32
 ФИЛ Уважаемый Венди. Работы эти я рекомендую ВСЕМ,а не... 17.1.2008, 4:21
ФИЛ Уважаемый Венди. Работы эти я рекомендую ВСЕМ,а не... 17.1.2008, 4:21

 Пьерро [quote name='ФИЛ' date='17.1.2008, 4:2... 17.1.2008, 4:45
Пьерро [quote name='ФИЛ' date='17.1.2008, 4:2... 17.1.2008, 4:45


 ФИЛ [quote name='ФИЛ' date='17.1.2008, 4:2... 17.1.2008, 5:22
ФИЛ [quote name='ФИЛ' date='17.1.2008, 4:2... 17.1.2008, 5:22


 Пьерро Извини, братишечка,я не о церковном Христе говорю,... 17.1.2008, 5:44
Пьерро Извини, братишечка,я не о церковном Христе говорю,... 17.1.2008, 5:44


 ФИЛ Если так, то Иешуа-то точно никакой новой идеи мир... 17.1.2008, 5:50
ФИЛ Если так, то Иешуа-то точно никакой новой идеи мир... 17.1.2008, 5:50


 Пьерро Или плохо роман читал,братишечка,или ничего не пон... 17.1.2008, 6:01
Пьерро Или плохо роман читал,братишечка,или ничего не пон... 17.1.2008, 6:01


 ФИЛ Да ты ж сказал: "Отверг и осудил одну, дал ми... 17.1.2008, 6:09
ФИЛ Да ты ж сказал: "Отверг и осудил одну, дал ми... 17.1.2008, 6:09


 Пьерро Давай ,брат, так...прочитай,обсудим...даже церковн... 17.1.2008, 6:35
Пьерро Давай ,брат, так...прочитай,обсудим...даже церковн... 17.1.2008, 6:35


 ФИЛ Дружочек, соседушка! Я конечно читал эту стать... 17.1.2008, 8:01
ФИЛ Дружочек, соседушка! Я конечно читал эту стать... 17.1.2008, 8:01

 Vendi Уважаемый Венди. Работы эти я рекомендую ВСЕМ,а не... 17.1.2008, 4:48
Vendi Уважаемый Венди. Работы эти я рекомендую ВСЕМ,а не... 17.1.2008, 4:48

 Vendi П.С. Простите,не видел ни одного оскорбления здес... 17.1.2008, 6:12
Vendi П.С. Простите,не видел ни одного оскорбления здес... 17.1.2008, 6:12
 tsa Уважаемый Фил,
Хочу предостеречь Вас, что в ли... 17.1.2008, 15:51
tsa Уважаемый Фил,
Хочу предостеречь Вас, что в ли... 17.1.2008, 15:51

 Vendi
Повторы самого себя. Сплошная ложь и брехня.
Д... 17.1.2008, 21:34
Vendi
Повторы самого себя. Сплошная ложь и брехня.
Д... 17.1.2008, 21:34

 tsa
Цитируемые слова вовсе не «вложены в уста самого ... 17.1.2008, 23:30
tsa
Цитируемые слова вовсе не «вложены в уста самого ... 17.1.2008, 23:30
 tsa Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа ... 17.1.2008, 23:01
tsa Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа ... 17.1.2008, 23:01
 tsa
«Неслыханная дерзость» – звучит впечатляюще, если... 18.1.2008, 0:45
tsa
«Неслыханная дерзость» – звучит впечатляюще, если... 18.1.2008, 0:45
 tsa
Кривая логика Баркова стремится исказить в нужном... 18.1.2008, 12:57
tsa
Кривая логика Баркова стремится исказить в нужном... 18.1.2008, 12:57
 tsa
Ну вот и вожделенный «рояль в кустах», ради котор... 18.1.2008, 15:24
tsa
Ну вот и вожделенный «рояль в кустах», ради котор... 18.1.2008, 15:24
 tsa
Как мы успели уже убедиться, ни малейших основани... 18.1.2008, 17:15
tsa
Как мы успели уже убедиться, ни малейших основани... 18.1.2008, 17:15
 tsa
Не могу не согласиться с этими разумными словами,... 18.1.2008, 17:18
tsa
Не могу не согласиться с этими разумными словами,... 18.1.2008, 17:18
 tsa
«В счете предметов в ряду числительных в русском ... 18.1.2008, 17:20
tsa
«В счете предметов в ряду числительных в русском ... 18.1.2008, 17:20
 tsa
Никаких признаков намеренно заданной автором сист... 18.1.2008, 18:05
tsa
Никаких признаков намеренно заданной автором сист... 18.1.2008, 18:05
 tsa Глава IX. О парадоксах в романе
[i]«Вы водку пье... 18.1.2008, 18:13
tsa Глава IX. О парадоксах в романе
[i]«Вы водку пье... 18.1.2008, 18:13
 евгений Все бродяги -- воры и попрошайки. Его в дом пустил... 20.1.2008, 4:58
евгений Все бродяги -- воры и попрошайки. Его в дом пустил... 20.1.2008, 4:58
 ФИЛ Все бродяги -- воры и попрошайки. Его в дом пустил... 20.1.2008, 11:28
ФИЛ Все бродяги -- воры и попрошайки. Его в дом пустил... 20.1.2008, 11:28  |
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:01 |