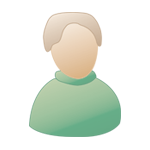Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 25.12.2007, 0:01 25.12.2007, 0:01
Сообщение
#201
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Уважаемые форумчане!
Приглашаю принять участие в обсуждении моей новой книги "«Мастер и Маргарита»: прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом", посвященной подробному разбору книги Альфреда Баркова "Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение ". Для удобства полемики, рубрикация основных разделов моей работы совпадает с рубрикацией работы Баркова. В каждом разделе его труда мною выделены и рассмотрены все основные, существенные для его выводов тезисные цитаты, критике и разбору которых и посвящена моя книга. Напоминаю, что данная тема открыта для обсуждения моей книги и книги Альфреда Баркова. Лучшим ответом мне и лучшей защитой теории основоположника альтернативного прочтения будут не славословия в адрес Баркова и не поливание меня бранью, а доказательное опровержение основных положений моей книги. При обсуждении прошу указывать соответствующий номер тезиса или раздела, это упростит чтение темы в дальнейшем. Так же прошу, обязательно указывать источники, на основании которых опровергается мое мнение. С уважением Сергей Цыбульник (tsa) -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
 tsa Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:01
tsa Прогулки с Барковым или путешествие с дилетантом 25.12.2007, 0:01
 tsa Извещаю своих читателей, что завершил очередной эт... 3.3.2008, 19:26
tsa Извещаю своих читателей, что завершил очередной эт... 3.3.2008, 19:26
 tsa Глава X. О календарях и Пасхах
«Что видишь, то и... 3.3.2008, 19:37
tsa Глава X. О календарях и Пасхах
«Что видишь, то и... 3.3.2008, 19:37
 tsa
Сколько лет проповедовал Иешуа в данной редакции,... 3.3.2008, 19:43
tsa
Сколько лет проповедовал Иешуа в данной редакции,... 3.3.2008, 19:43
 tsa
Право же нужно быть снисходительнее к чужим ляпам... 3.3.2008, 19:50
tsa
Право же нужно быть снисходительнее к чужим ляпам... 3.3.2008, 19:50
 tsa
Во-первых, Барков уже третий раз подряд повторяет... 3.3.2008, 19:55
tsa
Во-первых, Барков уже третий раз подряд повторяет... 3.3.2008, 19:55
 tsa
Право же в романе Булгакова столько нестыковок в ... 3.3.2008, 20:31
tsa
Право же в романе Булгакова столько нестыковок в ... 3.3.2008, 20:31
 tsa
Во-первых, трудно поверить, чтобы преподаватели З... 3.3.2008, 20:34
tsa
Во-первых, трудно поверить, чтобы преподаватели З... 3.3.2008, 20:34
 tsa
Думается, что самому Баркову, прежде чем «пускать... 3.3.2008, 20:38
tsa
Думается, что самому Баркову, прежде чем «пускать... 3.3.2008, 20:38
 tsa Глава XI. Определение даты финала
« безумец спос... 7.3.2008, 14:39
tsa Глава XI. Определение даты финала
« безумец спос... 7.3.2008, 14:39
 tsa
Против нижнего предела возражать не буду. Что ка... 7.3.2008, 14:44
tsa
Против нижнего предела возражать не буду. Что ка... 7.3.2008, 14:44
 tsa
Что это за таинственные [color=#000080]«булгакове... 7.3.2008, 14:57
tsa
Что это за таинственные [color=#000080]«булгакове... 7.3.2008, 14:57
 tsa
Вполне возможно, что Булгакова на эти строчки дей... 7.3.2008, 15:09
tsa
Вполне возможно, что Булгакова на эти строчки дей... 7.3.2008, 15:09
 tsa
Число членов Союза писателей мы уже разъяснили (с... 7.3.2008, 15:15
tsa
Число членов Союза писателей мы уже разъяснили (с... 7.3.2008, 15:15
 tsa
Булгаков употребляет слово «кружевной» только в ... 7.3.2008, 15:19
tsa
Булгаков употребляет слово «кружевной» только в ... 7.3.2008, 15:19
 tsa
Поскольку в черновых редакциях действие в основно... 7.3.2008, 15:23
tsa
Поскольку в черновых редакциях действие в основно... 7.3.2008, 15:23
 tsa
Вот комментарий этой фразы профессиональным астро... 7.3.2008, 15:28
tsa
Вот комментарий этой фразы профессиональным астро... 7.3.2008, 15:28
 tsa
В европейской части затмение наблюдалось не днем,... 7.3.2008, 15:32
tsa
В европейской части затмение наблюдалось не днем,... 7.3.2008, 15:32
 tsa
Барков хитро смещает акценты, пытаясь создать ну... 7.3.2008, 15:44
tsa
Барков хитро смещает акценты, пытаясь создать ну... 7.3.2008, 15:44
 tsa
Нет уж, увольте, не могу я согласиться с подобны... 7.3.2008, 15:52
tsa
Нет уж, увольте, не могу я согласиться с подобны... 7.3.2008, 15:52
 tsa
Как мы убедились выше, ни фенологические ни астро... 7.3.2008, 15:58
tsa
Как мы убедились выше, ни фенологические ни астро... 7.3.2008, 15:58
 tsa
Повторюсь, или действие происходит в мае и Мастер... 7.3.2008, 16:26
tsa
Повторюсь, или действие происходит в мае и Мастер... 7.3.2008, 16:26
 tsa Резюме II. Роман Булгакова не является криптограмм... 7.3.2008, 16:27
tsa Резюме II. Роман Булгакова не является криптограмм... 7.3.2008, 16:27
 Синицын Добрый час. Долгое время не заглядывал сюда, сейча... 18.3.2008, 12:15
Синицын Добрый час. Долгое время не заглядывал сюда, сейча... 18.3.2008, 12:15

 tsa Добрый час. Долгое время не заглядывал сюда, сейча... 18.3.2008, 15:14
tsa Добрый час. Долгое время не заглядывал сюда, сейча... 18.3.2008, 15:14

 tsa п. I.I.1 (о Левие Матвее)
В книге Б. Сарнова ... 19.3.2008, 21:31
tsa п. I.I.1 (о Левие Матвее)
В книге Б. Сарнова ... 19.3.2008, 21:31
 tsa Приступая к главе XII "«Цекуба» или «Фалерно»... 20.3.2008, 12:38
tsa Приступая к главе XII "«Цекуба» или «Фалерно»... 20.3.2008, 12:38
 tsa Глава XII. «Цекуба» или «Фалерно»?
«Альфред Барк... 20.3.2008, 12:42
tsa Глава XII. «Цекуба» или «Фалерно»?
«Альфред Барк... 20.3.2008, 12:42
 tsa
Вино не знает государственного районирования, а ... 20.3.2008, 12:47
tsa
Вино не знает государственного районирования, а ... 20.3.2008, 12:47
 tsa
«Дурень думкою багатіє!», – говорят в Украин... 20.3.2008, 12:50
tsa
«Дурень думкою багатіє!», – говорят в Украин... 20.3.2008, 12:50
 tsa
Совершенно безграмотное невежественное утвержден... 20.3.2008, 12:56
tsa
Совершенно безграмотное невежественное утвержден... 20.3.2008, 12:56
 tsa
ЦеКУБУ (именно так правильно писалось ее названи... 20.3.2008, 13:27
tsa
ЦеКУБУ (именно так правильно писалось ее названи... 20.3.2008, 13:27
 tsa
Барков бесцеремонно искажает объективные факты, н... 20.3.2008, 13:30
tsa
Барков бесцеремонно искажает объективные факты, н... 20.3.2008, 13:30
 tsa
Письмо Булгакова, прежде всего, подтверждает тот... 20.3.2008, 13:39
tsa
Письмо Булгакова, прежде всего, подтверждает тот... 20.3.2008, 13:39
 tsa
Должно то должно, но только не в случае idee fix... 20.3.2008, 13:42
tsa
Должно то должно, но только не в случае idee fix... 20.3.2008, 13:42
 tsa
Да, в первом случае подчеркнуто, что вино густое... 20.3.2008, 13:43
tsa
Да, в первом случае подчеркнуто, что вино густое... 20.3.2008, 13:43
 tsa
Типичный образец барковско-кураевской «логики». ... 20.3.2008, 13:51
tsa
Типичный образец барковско-кураевской «логики». ... 20.3.2008, 13:51
 tsa
Парадокс заключается в том, что Барков человека ... 20.3.2008, 13:55
tsa
Парадокс заключается в том, что Барков человека ... 20.3.2008, 13:55
 tsa
Она может свидетельствовать об этом только в вос... 20.3.2008, 13:58
tsa
Она может свидетельствовать об этом только в вос... 20.3.2008, 13:58
 tsa
Причиной подобных ассоциаций, как мы убедились, ... 20.3.2008, 14:01
tsa
Причиной подобных ассоциаций, как мы убедились, ... 20.3.2008, 14:01
 tsa
Исчерпывающий квалифицированный ответ на вопрос ... 20.3.2008, 14:05
tsa
Исчерпывающий квалифицированный ответ на вопрос ... 20.3.2008, 14:05
 tsa Глава XIII. От Феси и Берлиоза до Мастера
[color... 31.3.2008, 18:05
tsa Глава XIII. От Феси и Берлиоза до Мастера
[color... 31.3.2008, 18:05
 tsa
Прежде чем использовать реконструкции Чудаковой,... 31.3.2008, 18:11
tsa
Прежде чем использовать реконструкции Чудаковой,... 31.3.2008, 18:11
 tsa
Горький никогда не изгонялся из Советской России.... 31.3.2008, 18:18
tsa
Горький никогда не изгонялся из Советской России.... 31.3.2008, 18:18
 tsa
«Полагаю, что более четкое указание» на доброволь... 31.3.2008, 18:36
tsa
«Полагаю, что более четкое указание» на доброволь... 31.3.2008, 18:36
 tsa
В развитие высказанных ранее критических замечани... 31.3.2008, 18:44
tsa
В развитие высказанных ранее критических замечани... 31.3.2008, 18:44
 tsa
Памятник великому русскому ученому – естествоиспы... 31.3.2008, 18:48
tsa
Памятник великому русскому ученому – естествоиспы... 31.3.2008, 18:48
 tsa
В романе неоднократно упоминается, что «во втором... 31.3.2008, 18:58
tsa
В романе неоднократно упоминается, что «во втором... 31.3.2008, 18:58
 tsa
Тугой узел сложных ассоциаций предлагает нам Барк... 31.3.2008, 19:05
tsa
Тугой узел сложных ассоциаций предлагает нам Барк... 31.3.2008, 19:05
 tsa
Только с криптографического бодуна можно предполо... 31.3.2008, 19:09
tsa
Только с криптографического бодуна можно предполо... 31.3.2008, 19:09
 tsa
Сначала Барков уверяет, что исходивший Россию вдо... 31.3.2008, 19:11
tsa
Сначала Барков уверяет, что исходивший Россию вдо... 31.3.2008, 19:11
 tsa
Лицемерное утверждение Баркова, что при жизни Гор... 31.3.2008, 19:17
tsa
Лицемерное утверждение Баркова, что при жизни Гор... 31.3.2008, 19:17
 tsa Глава XIV. «Неожиданная слеза»
[i]«– Начисто, – ... 25.4.2008, 13:59
tsa Глава XIV. «Неожиданная слеза»
[i]«– Начисто, – ... 25.4.2008, 13:59
 tsa
Судя по приведенным Барковым воспоминаниям совре... 25.4.2008, 14:07
tsa
Судя по приведенным Барковым воспоминаниям совре... 25.4.2008, 14:07
 tsa
Слова Баркова говорят только о его невнимательнос... 25.4.2008, 14:10
tsa
Слова Баркова говорят только о его невнимательнос... 25.4.2008, 14:10
 tsa
У Горького никогда не было свесившегося в воспал... 25.4.2008, 14:12
tsa
У Горького никогда не было свесившегося в воспал... 25.4.2008, 14:12
 tsa А вот, например, у А. Жданова и Б. Брехта наличие ... 25.4.2008, 14:24
tsa А вот, например, у А. Жданова и Б. Брехта наличие ... 25.4.2008, 14:24
 tsa
Увлекшись сочинением небылиц Барков уже и забыл,... 25.4.2008, 14:46
tsa
Увлекшись сочинением небылиц Барков уже и забыл,... 25.4.2008, 14:46

 Мокей На широко известных, канонизированных системой пор... 26.4.2008, 3:14
Мокей На широко известных, канонизированных системой пор... 26.4.2008, 3:14

 tsa [color=#0000ff]Из фотографий видно, что хотя нос Г... 5.5.2008, 14:04
tsa [color=#0000ff]Из фотографий видно, что хотя нос Г... 5.5.2008, 14:04
 tsa Несомненно, Булгаков питал пристрастие к зеленому ... 25.4.2008, 15:15
tsa Несомненно, Булгаков питал пристрастие к зеленому ... 25.4.2008, 15:15
 tsa Как могли заметить уважаемые читатели данной темы ... 23.5.2008, 16:21
tsa Как могли заметить уважаемые читатели данной темы ... 23.5.2008, 16:21
 Синицын tsa
И вновь - браво! Работа с материалами - вы... 6.6.2008, 12:08
Синицын tsa
И вновь - браво! Работа с материалами - вы... 6.6.2008, 12:08

 tsa [b]tsa
И вновь - браво! Работа с материалами -... 6.6.2008, 23:35
tsa [b]tsa
И вновь - браво! Работа с материалами -... 6.6.2008, 23:35
 tsa Чудеса однако. Вчера выложил новую главу, а сегодн... 20.6.2008, 12:02
tsa Чудеса однако. Вчера выложил новую главу, а сегодн... 20.6.2008, 12:02
 tsa Как всегда отпуск пролетел со скоростью лета в бас... 17.7.2008, 15:44
tsa Как всегда отпуск пролетел со скоростью лета в бас... 17.7.2008, 15:44

 Пьерро Как всегда отпуск пролетел со скоростью лета в бас... 18.7.2008, 16:47
Пьерро Как всегда отпуск пролетел со скоростью лета в бас... 18.7.2008, 16:47

 tsa Но ты опять собачишься! Пара строчек вниз и во... 18.7.2008, 19:03
tsa Но ты опять собачишься! Пара строчек вниз и во... 18.7.2008, 19:03

 Пьерро Не мог бы ты указать чего именно конкретно мне сле... 18.7.2008, 19:21
Пьерро Не мог бы ты указать чего именно конкретно мне сле... 18.7.2008, 19:21


 tsa Я тебе напомню, зачем Зеркалова помянул. А именно ... 18.7.2008, 20:05
tsa Я тебе напомню, зачем Зеркалова помянул. А именно ... 18.7.2008, 20:05

 Пьерро Не мог бы ты указать чего именно конкретно мне сле... 18.7.2008, 19:46
Пьерро Не мог бы ты указать чего именно конкретно мне сле... 18.7.2008, 19:46

 tsa Я тебе скажу, чего следует стыдиться.
У меня имее... 18.7.2008, 20:26
tsa Я тебе скажу, чего следует стыдиться.
У меня имее... 18.7.2008, 20:26
 tsa Глава XV. О «старичках»
[i]«Пока не требует поэт... 17.7.2008, 15:51
tsa Глава XV. О «старичках»
[i]«Пока не требует поэт... 17.7.2008, 15:51
 tsa
По Баркову получается, что не было у Булгакова бо... 17.7.2008, 15:55
tsa
По Баркову получается, что не было у Булгакова бо... 17.7.2008, 15:55
 tsa
Пресловутый кондовый большевистский подход к «ве... 17.7.2008, 16:02
tsa
Пресловутый кондовый большевистский подход к «ве... 17.7.2008, 16:02
 tsa
Если бы Барков обратил внимание на свой генезис и... 17.7.2008, 16:23
tsa
Если бы Барков обратил внимание на свой генезис и... 17.7.2008, 16:23
 tsa
Главное здесь другое: полковник КГБ не понимает, ... 17.7.2008, 16:29
tsa
Главное здесь другое: полковник КГБ не понимает, ... 17.7.2008, 16:29
 tsa Как я уже писал, данная тема периодически подверга... 25.7.2008, 12:58
tsa Как я уже писал, данная тема периодически подверга... 25.7.2008, 12:58
 tsa А вот, например, у А. Жданова и Б. Брехта наличие ... 25.7.2008, 13:08
tsa А вот, например, у А. Жданова и Б. Брехта наличие ... 25.7.2008, 13:08
 Синицын
Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, ... 29.7.2008, 8:40
Синицын
Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, ... 29.7.2008, 8:40

 tsa Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, д... 29.7.2008, 12:31
tsa Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, д... 29.7.2008, 12:31


 Пьерро Не согласен.По убеждениям он был монархист и воспр... 2.8.2008, 8:59
Пьерро Не согласен.По убеждениям он был монархист и воспр... 2.8.2008, 8:59


 tsa Ты уверен? Это не было временным увлечением со сто... 2.8.2008, 16:21
tsa Ты уверен? Это не было временным увлечением со сто... 2.8.2008, 16:21


 Пьерро 5. С какой стати Булгаков должен был посылать свои... 2.8.2008, 17:08
Пьерро 5. С какой стати Булгаков должен был посылать свои... 2.8.2008, 17:08


 tsa Потому, что он написал: "Всякая власть насили... 2.8.2008, 18:30
tsa Потому, что он написал: "Всякая власть насили... 2.8.2008, 18:30


 Пьерро Во-первых, это не он придумал. На эту тему даже Ле... 2.8.2008, 19:04
Пьерро Во-первых, это не он придумал. На эту тему даже Ле... 2.8.2008, 19:04


 tsa Что ты расссказывал насчёт монархии?
Я бы много че... 2.8.2008, 21:32
tsa Что ты расссказывал насчёт монархии?
Я бы много че... 2.8.2008, 21:32


 Пьерро Я бы много чего мог рассказать. Мог бы напомнить, ... 3.8.2008, 1:33
Пьерро Я бы много чего мог рассказать. Мог бы напомнить, ... 3.8.2008, 1:33


 tsa Ты многое мог расскзать? Why not? Я и вправду хоте... 3.8.2008, 18:16
tsa Ты многое мог расскзать? Why not? Я и вправду хоте... 3.8.2008, 18:16


 Пьерро Ну так организуй семинар булгаковедов-любителей с ... 4.8.2008, 13:00
Пьерро Ну так организуй семинар булгаковедов-любителей с ... 4.8.2008, 13:00


 tsa А Стёпа Лиходеев уже съездил туда. Сколько помню -... 4.8.2008, 17:39
tsa А Стёпа Лиходеев уже съездил туда. Сколько помню -... 4.8.2008, 17:39

 tsa Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, д... 29.7.2008, 19:09
tsa Не нужно оправдывать Мастера, доказывая, что он, д... 29.7.2008, 19:09
 Синицын
Меня не устраивает данное конкретное сравнение, а... 30.7.2008, 5:47
Синицын
Меня не устраивает данное конкретное сравнение, а... 30.7.2008, 5:47

 tsa Меня не устраивает данное конкретное сравнение, а ... 30.7.2008, 19:14
tsa Меня не устраивает данное конкретное сравнение, а ... 30.7.2008, 19:14
 tsa Предвидя Вашу резко отрицательную реакцию на мои с... 30.7.2008, 19:27
tsa Предвидя Вашу резко отрицательную реакцию на мои с... 30.7.2008, 19:27
 Синицын
Да, согласен полностью.
Может быть, они рассужда... 31.7.2008, 6:46
Синицын
Да, согласен полностью.
Может быть, они рассужда... 31.7.2008, 6:46

 tsa Может быть, они рассуждали так же, как и друзья Ма... 31.7.2008, 12:16
tsa Может быть, они рассуждали так же, как и друзья Ма... 31.7.2008, 12:16
 Синицын
Нет, это не улика, а всего лишь попытка оказать д... 1.8.2008, 5:04
Синицын
Нет, это не улика, а всего лишь попытка оказать д... 1.8.2008, 5:04

 tsa Нет, это не улика, а всего лишь попытка оказать де... 1.8.2008, 12:55
tsa Нет, это не улика, а всего лишь попытка оказать де... 1.8.2008, 12:55
 Синицын
Конечно, не аргумент, ибо ни в цитате, ни в перед... 3.8.2008, 6:37
Синицын
Конечно, не аргумент, ибо ни в цитате, ни в перед... 3.8.2008, 6:37
 tsa Конечно, не аргумент, ибо ни в цитате, ни в переда... 3.8.2008, 18:09
tsa Конечно, не аргумент, ибо ни в цитате, ни в переда... 3.8.2008, 18:09  |
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:55 |