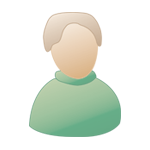Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 10.12.2008, 14:14 10.12.2008, 14:14
Сообщение
#401
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.2. Несмотря на огромную разницу в жанрах двух литературных сочинений: дневниковых, практически репортерских записей Чуковского и полностью построенного на метафорах "закатного" романа Булгакова – их роднит конгениальность направленности мысли в оценке личности и роли Горького. В принципе, иначе и не может быть: ведь оба писателя – интеллигенты, порядочность которых без каких-либо "кровавых подбоев". Поэтому этические оценки Чуковского, включая оценку личности Горького, в определенных пределах можно считать достаточно надежным камертоном для суждения о мнении Булгакова. Как мы уже многократно убедились, роман Булгакова не имеет никакого отношения к оценке личности и роли Горького, поэтому «этические оценки Чуковского, включая оценку личности Горького» вовсе не являются «камертоном для суждения о мнении Булгакова». Да и сами оценки Горького Чуковским вполне положительны, несмотря на все старания Баркова придать им какой-то отрицательный смысл – «Как художник, Горький не только не падает, но с каждым новым произведением – растет»[1]. ______________________________________________________ [1] Там же, с. 383. Цитата IV.XXI.3. Если вглядеться, как Чуковский развивает тему "мессианства" Горького, то можно заметить и другие параллели с фабулой романа Булгакова. Например: "Род человеческий болен, весь в язвах и струпьях, – нужно вылечить людей. Все люди – красавцы, таланты, святые, и, если бы уничтожить нарывы и прыщи, покрывающие атлетическое тело народа, вы увидели бы, как оно дивно прекрасно. Все мировоззрение Горького зиждется на этом единственном догмате (ср. с булгаковским Иешуа: "Все люди – добрые"). Во-первых, между понятиями «прекрасный» и «добрый» даже приблизительного равенства нет. Во-вторых, ни Горький, ни Булгаков не являются первопроходцами в области подобной философии. Истоки ее стары, как мир. С таким же успехом можно сказать, что Булгаков имел в виду «мессианство» Блока: «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен»[1]. ____________________________________________________________ [1] Блок А. Возмездие // Блок А., Белый А. Диалог поэтов о России и революции. – М.: Высш. школа, 1990, с. 131. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:16 10.12.2008, 14:16
Сообщение
#402
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.4. Многократно изображая Россию, как некую огромную больницу, где в незаслуженно-лютых муках корчатся раздавленные жизнью, Горький чувствует себя в этой больнице врачом или, скажем скромнее, фельдшером, и прописывает больным разные лекарства. Лечить – его призвание. Он всегда только и делал, что лечил. Недаром бог ему мерещится лекарем. Каждая его книга – рецепт: как вылечить русских людей от русских болячек. Лечебник русских социальных болезней. Ни одной своей книги он не написал просто так, безо всяких медицинских целей. Сначала он лечил нас анархизмом, потом социализмом, потом коммунизмом, – но, чем бы ни лечил, всегда верил, что, стоит нам принять его лекарство, и все наши болячки исчезнут. И всегда был убежден, что его последний рецепт самый лучший, что он знает ту единоспасительную истину, которая приведет человечество к счастью. Для него нет неизлечимых болезней, он доктор-оптимист: все отлично, вы выздоровеете, только глотайте пилюли, которые он вам прописал. Отсюда всегда мажорный, утешительный тон его книг: какие бы ужасы он ни описывал, он видит, что они преходящи, и – главное – знает отчетливо, как от этих ужасов избавить". Барков упорно пытается создать впечатление негативной оценки Горького Чуковским. Однако положительная оценка последнего недвусмысленно сквозит в прямом продолжении данной цитаты: «Иначе он и не умеет мыслить <…> Тут беспримерная дисциплина воли: человек по внушению долга перекраивает все свое естество, приказывает себе, чт́о любить и чего не любить»[1]. _________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 354. Цитата IV.XXI.5. "Горький не богоискатель, не правдоискатель, он только искатель счастья: счастье для него дороже правды […] И если правда не даст человечеству счастья, то да здравствует ложь!" О "крайне запутанном отношении" Горького к "правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю жизнь", о "сентиментальной любви ко всем видам лжи и упорной, непоследовательной нелюбови к правде" вспоминал и поэт В.Ф. Ходасевич. Действительно, еще в январе 1900 года в одном из писем А.П. Чехову Горький писал: "Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала приукрашивать жизнь". И ровно через 35 лет, 18 января 1935 года "Правда" опубликовала вторую часть знаменитых горьковских "Литературных забав", где содержалась такая сентенция: "Подлинное искусство обладает правом преувеличивать" ("Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но […] необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении…"). Примечательно, что Барков даже не понимает, что цитируемый им булгаковский текст демонстрирует пример не приукрашивания или преувеличения действительности, а наоборот, ее искажения. Здесь полная аналогия с «искусством» самого Баркова. Несомненно, он считал его подлинным, но, так же как и Берлиоз, Барков не преувеличил отдельные стороны истины, а целенаправленно и грубо исказил ее. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:20 10.12.2008, 14:20
Сообщение
#403
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.6. Да и при чтении пассажа о Горьком-фельдшере возникает невольная ассоциация с ролью Мастера в клинике Стравинского. Ведь там он тоже избавлял Бездомного от мук творчества, превратив талантливого поэта в совслужащего без царя в голове. В клинике Стравинского Мастер сделал с Иваном то, что к сожалению никто из булгаковедов так и не удосужился сделать с самим Барковым – Мастер выбил у Ивана всю дурь из головы, превратив поэта из талантливого приспособленца в мыслящего человека. Цитата IV.XXI.7. И еще одна ассоциация, которую невозможно не отметить: описываемый Чуковским мажорный, утешительный тон книг Горького – разве не такой же он у лживой концовки Мастера к своему роману о Иешуа? – Пилат-де раскаялся, да и казни не было, Иешуа простил своего палача, они даже подружились, так что ты, дорогой товарищ Бездомный-Понырев, спи счастливым сном идиота и считай, что все описанное в романе тебе лишь приснилось. А встанешь утром – иди спокойно на работу и не гоняйся за сатаной. Не было сатаны, и все тут. Напомню, что цитируемая работа К. Чуковского впервые была опубликована в 1924 году, и Булгаков мог быть знаком с ней. Эпилог романа мы уже обсуждали, это не концовка Мастера, а всего лишь сон Ивана (см. тезис I.VI.4). -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:25 10.12.2008, 14:25
Сообщение
#404
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.8. Представляет интерес и вопрос о трансформации понимания Горьким гуманизма. Вначале – его собственное высказывание, относящееся к 1919 году: " – Я человек бытовой – и, конечно, мы с вами (с Блоком – А. Б.) люди разные – […] но мне тоже кажется, что гуманизм – именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я […] недавно был на съезде деревенской бедноты – десять тысяч морд – деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, […] гуманистическим идеям надо заостриться до последней крайности – гуманистам надо стать мучениками, стать христоподобными – и это будет, будет…[…]. Нужно только слово гуманизм заменить словом нигилизм". Давайте теперь посмотрим, как "полетел ко всем чертям" "гуманизм (в христианском смысле)" в горьковской "громовой" публицистике тридцатых годов: "Интернациональный союз писателей-демократов" в лице генерального секретаря его господина Люсьена Кине почтил меня приглашением сотрудничать в литературном органе союза. Цель союза – "сближение литераторов-демократов", в его президиуме – Ромен Роллан и Эптон Синклер – люди, которых я весьма уважаю. Но вместе с ними в президиуме профессор Альберт Эйнштейн, а в комитете – господин Генрих Манн. Эти двое, вместе со многими другими гуманистами, недавно подписали протест немецкой "лиги защиты прав человека" против казни сорока восьми преступников, организаторов пищевого голода в Советском Союзе… …Я считаю эту казнь вполне законной… А так как господа А. Эйнштейн и Г. Манн согласны с оценкой "Лиги", то само собой разумеется, что какое-либо мое "сближение" невозможно, и поэтому я отказываюсь от сотрудничества в органе "Интернационального союза писателей-демократов". Полагаю, комментировать это было бы излишним. Более ясно, чем Горький сам сказал о себе, не получится. Лучше привести скупую, строго выверенную запись в "Летописи жизни и творчества А.М. Горького": "10 июля 1934 г. Пишет А. Курелле. Отказывается писать статью для журнала "Монд" из-за большой загруженности работой. Рекомендует использовать статью "Пролетарский гуманизм" – "Эту статейку очень одобрил т. Сталин". Помните – "Он, оказывается, "гуманист", старичок-то!" Чем отличался горьковский "пролетарский гуманизм" от гуманизма таких "старичков", как Альберт Эйнштейн и Генрих Манн, видно из его прославленной статьи "С кем вы, мастера культуры?": "Понятие "насилия" прилагается к социальному процессу, происходящему в Союзе Советов, врагами рабочего класса в целях опорочить его культурную работу…" Здесь позиция Горького явно противоположна позиции 1917 года, когда он бросал со страниц "Новой жизни" резкие упреки Ленину, который "бесчестит революцию" и "оправдывает деспотизм власти". Да и в отношении рабочего класса его позиция изменилась на противоположную – вспомнить хотя бы приведенное выше его высказывание о том, что "пролетариат не великодушен и не справедлив"… Более интересна трансформация понятия «гуманизм» у Блока. Если Горький признавал гуманизм с какими-то оговорками, то Блок считал, что это понятие вообще отмирает, то есть шагнул существенно дальше Горького: «Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с б́ольшим правом: цивилизованные люди – варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы»; «<…> исход борьбы, которая длилась полтора столетия, внутренне решен: побежденным оказалась гуманная цивилизация, победителем – дух музыки. Во всем мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; человек становится ближе к стихии; и потому – человек становится музыкальнее»; «Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки <…>; цель движения – уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек – артист; он и только он, будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество»[1]. Остается упомянуть слова Блока – «Мир прекрасен, но его загаживает человеческий шлак. Стоит только этому шлаку перегореть в революции, и красота мира будет явлена всем»[2], – и портрет отъявленного, закоренелого антигуманиста закончен. Куда уж там Горькому со своим «Если враг не сдается, его уничтожают» – тут антигуманизм не при чем, – у всех врагов судьба такая. _______________________________________________________________ [1] Блок А. Крушение гуманизма. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. – М.-Л.: Гос. изд. Худож. лит., 1962, с. 99, 113-115. [2] Чуковский К. И. Александр Блок как человек и поэт. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 397. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:30 10.12.2008, 14:30
Сообщение
#405
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.9. В письме к Л. Леонову от 11 декабря 1930 года Горький писал: "Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства. В какие смешные и тяжелые положения ставил я себя в 18-21 г.г., заботясь о том, чтобы эти мерзавцы не издохли с голода. Но дело, конечно, не в этом, не во мне, а – в их жуткой "психике" …". Впрочем, великий пролетарский писатель напрасно так сокрушался: одному из них – О. Мандельштаму – он все-таки в тот период в выдаче брюк отказал. Хотя то, что "этот мерзавец не издох с голода" еще на заре новой власти, конечно, явный "прокол" Горького. Старую ошибку удалось устранить только в тридцать четвертом – арест поэта как раз совпал по времени с решением оргкомитета нового Союза писателей о награждении Горького членским билетом под номером один. Барков опять грубо подтасовывает факты. Горький пишет не о литераторах, а об обвинении во вредительстве группы технических интеллигентов. С их участием был разыгран грандиозный трагический спектакль под названием «Процесс Промпартии» на котором обвиняемые признали свою вину. Вполне можно понять законное возмущение Горького, поверившего сфабрикованным ГПУ лживым обвинениям. Тем более, что с ходом процесса он знакомился исключительно по материалам советской печати. Газета «Правда» в те дни писала: «Две тысячи студентов и профессоров бывшего МВТУ вышли вчера на улицу, требуя одного: расстрелять»[1]. И подобные митинги и демонстрации прокатились по всей стране. Не остался в стороне от народного гнева и Горький. Именно тогда он написал свои печально известные слова – «Когда враг не сдаётся, его уничтожают». К сожалению я не располагаю образцами выступлений Альфреда Баркова на партийных собраниях. Лишены мы и удовольствия прочесть его доклады на регулярных политинформациях. Не того уровня фигурка и вряд ли подобные документы придет кому-нибудь в голову разыскивать. Но содержание выступлений этого без пяти минут генерала КГБ мы действительно легко можем интерполировать по выступлениям других приспособленцев той эпохи, ныне так же храбро как и Барков оплевывающих ее. А ведь, в отличие от Горького, эти люди знали действительное положение дел в стране. Они ходили по улицам без охраны, общались с кем им было угодно, доступ к ним никто не ограничивал, никакие ведомства не занимались сознательной, целенаправленной фальсификацией поступающей к ним информации. _________________________________________________________________ [1] Очерки истории Московского Высшего Технического Училища, составленные на основе подлинных документов инженер-механиком И. Л. Волчкевичем. Москва, 1999. – http://www.bmstu.ru/~vil/kniga/o24.htm -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:36 10.12.2008, 14:36
Сообщение
#406
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата Цитата IV.XXI.10. Характерно, что в свой очерк "В.И. Ленин", переработанный и дополненный в 1930 году, Горький включил такое признание: "Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов, я обязан был переоценить – и переоценил – мое отношение к работникам науки и техники". Одной из знаменательных вех в развитии горьковского "гуманизма" явилась публикация 15 ноября 1930 года в "Правде" и "Известиях" его статьи "Если враг не сдается, его уничтожают". Имелся в виду внутренний "враг", желавший свободно трудиться на собственной земле и не отдававший нажитое собственным горбом в колхозы. Эта "громовая" статья, в названии которой в "Известиях" вместо "уничтожают" фигурировало "истребляют", явилась добротной идеологической основой для начавшегося массового "раскулачивания" и истребления крестьянства как класса. Еще одной такой вехой явилась публикация (опять же в "Правде") в 1934-35 гг. серии из трех горьковских статей под общим заголовком "Литературные забавы". В них содержалась не только апологетика сталинского режима и "коллективного свободного труда", и не только патетические проклятья в адрес прячущихся в рядах партии большевиков подлых убийц. Утверждая, что "индивидуализм – весьма распространенная болезнь в литературной среде" (каково было читать такое Булгакову!), Горький фактически встал на путь политического доносительства. Это проявилось в его менторской критике молодых поэтов, которых он назвал "чуждыми типами". Ставшее печально крылатым его утверждение о том, что "от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа", как и намек на возможность изолировать молодых поэтов от общества, явились фактически приговором П. Васильеву и Я. Смелякову. Вопрос о «Литературных забавах» Горького мы рассмотрим при обсуждении тезисов IV.XXII.10-11. По поводу же якобы «политического доносительства» Горького есть и более авторитетные мнения: «Писатель не сразу понял, что находится под домашним арестом. Для идеологического окормления приставили к нему выпускника Института красной профессуры, автора книги «Наследие Пушкина и коммунизм», написанной за одну ночь по заданию Сталина, профессора Валерия Яковлевича Кирпотина. <…> Я спросил у Кирпотина, как мог Горький, мечтавший о религии, где вместо Бога будет обожествлен человек, цитировать фразу Робеспьера: «Если враг не сдается, его уничтожают». «Милая вы моя собака, – ответил Кирпотин, пародируя Чехова[1], – все, что говорилось в то время Горьким, было продиктовано одним желанием – обмануть Сталина и улизнуть на Капри. Но мышеловка захлопнулась. Скорее всего, его отравили». Валерий Яковлевич Кирпотин был человеком умным, проницательным, информированным. И на ветер слов не бросал[2]. Скорее всего, именно так дело и обстояло, и Горький надеялся дезавуировать написанное им по выезде за границу. Но такую возможность ему не предоставили. Проведем привычную аналогию с Мандельштамом. Если бы поэта отравили после его верноподданнических стихов и статей 1935-1937(!) года, по его собственному определению «подхалимских», «мутных и пустых»[3], то ныне в его адрес, несомненно, сочинялись бы обвинения в «оподлении». В лучшем случае написали бы, что разум его помутился от тяжелых испытаний… В последние годы Горький не мог позволить себе откровенное выражение своих мыслей, но выдающийся художник-портретист Ю. Анненский подчеркивает, например, следующий поразительный факт: «Любопытная подробность: в богатейшей библиотеке этого «марксиста», на полках которой теснились книги по всем отраслям человеческой культуры, я не нашел (а я разыскивал прилежно) ни одного тома произведений Карла Маркса. Маркса Горький именовал «Карлушкой», а Ленина – «дворянчиком». Последнее, впрочем, соответствовало действительности»[4]. С этими воспоминаниями Анненского перекликаются свидетельства Блока и Чуковского: «Был у меня Гумилев. – Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький – высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!»; «Сегодня впервые я видел прекрасного Горького – и упивался зрелищем <…> Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье – очень строгий стал надевать перчатку – и, стоя среди комнаты, сказал: – Вот он <Н. Н. Пунин – С.Ц.> говорит, что его ненавидят в Д[оме] И[скусств]. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и… в их коммунизм не верю»[5]. _____________________________________________________________ [1] Привычное обращение А. П. Чехова к его жене О. Л. Книппер-Чеховой – С.Ц. [2] Кедров К. Почему Алексей Максимович закрылся щитом псевдонима Горький? // Известия. – 2008. – 28 марта. – http://www.inauka.ru/philology/article81862.html [3] Нехамкин С. Пусти меня, отдай меня, Воронеж… // Известия. – 2004. – 25 июня. – http://www.inauka.ru/philology/article47695.html [4] Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 т. Т. 1. – М.: Худож. лит., 1991, с. 40. [5] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), записи от 14.02.1920 и 19.04.1920. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 141, 144. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:43 10.12.2008, 14:43
Сообщение
#407
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.11. Итак, с "гуманизмом" Горького разобрались. Осталось только ответить на вполне законный вопрос терпеливого читателя: "Все это хорошо, но при чем здесь булгаковский роман?" Придется снова возвратиться к той самой тринадцатой главе, где Мастер рассказывает о себе Бездомному: " – Но вы можете выздороветь, – робко сказал Иван. – Я неизлечим, – спокойно ответил гость, – когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня". "Гуманен"… Поэтому ему нельзя верить… Выходит, что с точки зрения Мастера гуманизм – понятие негативное. Совершенно нелогичное рассуждение. С точки зрения Мастера гуманный человек способен скрыть правду от больного о его безвыходном положении. Но где здесь осуждение? Где негатив?!! Принципов Стравинского придерживаются врачи всего мира и прежде всего потому, что далеко не у всех, а особенно у больных, хватает сил жить зная страшную правду. Цитата IV.XXI.12. Надежда Яковлевна Мандельштам писала в своих воспоминаниях: "Читая какие-нибудь циничные, страшные или дикие высказывания, О.М. часто говорил: "Мы погибли"… Впервые он это произнес, показывая мне отзыв Сталина на сказку Горького: "Эта штука сильнее "Фауста" Гете. Любовь побеждает смерть"…". В этом свидетельстве содержится два заслуживающих внимания момента. Первый – сравнение Сталиным горьковского произведения с "Фаустом" Гете. (Есть даже картина такая – "Горький читает товарищам Сталину и Ворошилову поэму "Девушка и смерть". Не ручаюсь за точное название этого шедевра, но военная форма Ворошилова там очень к месту. Она, видимо, должна была приводить в ужас не только Мандельштама, но и ту девушку, которой даже смерть не страшна). Уж кто только из литературоведов не примерял булгаковского Мастера к гетевскому Фаусту, да все без особого успеха… А вот сталинско-ворошиловский аспект упустили. А ведь Булгаков не мог не знать не только о сталинском высказывании о "Фаусте" Гете, но и о реакции на это Мандельштама. Тогда не стоит ли рассмотреть "фаустовскую" тему в романе и под таким углом зрения?.. Тем паче, что угол зрения некоторых булгаковедов слишком уж скошен в сторону постановления ЦК ВКП(б) от 1932 года. Что же касается второго момента, то следует сказать, что среди писателей все же были и такие, которые не очень пугались Горького и даже осмеливались не только кулуарно, как Мандельштам, но и публично оспоривать его право ставить собратьев по перу в угол. В частности, на "Открытое письмо А.С. Серафимовичу" ("Литературная газета", 14.02.1934 г.), где Горький отрицает "мужицкую силу" Ф. Панферова, которая, по его мнению, противоречит работе партии ("… – сила социально нездоровая и культурно-политическая, талантливо последовательная работа партии Ленина-Сталина направлена именно к тому, чтобы вытравить из сознания мужика эту его, хвалимую вами "силу"), последовала смелая отповедь Серафимовича. Даже "Правда" нашла возможным поместить "Открытое письмо А.М. Горькому", в котором Ф. Панферов писал, в частности: "Я прочитал вашу третью длиннейшую "Литературную забаву". И в этой "Литзабаве" вы снова слишком увлекательно забавляетесь, забывая о том, что имеете дело с живыми людьми, а не с манекенами. Абсолютно бездоказательно вы пишете, что я занимаюсь "болтовней", называя мою речь на съезде писателей: "беспомощная статейка", "малограмотная статейка". Что это за методы спора? Это заушательство, которое вы в своей третьей "Литературной забаве" осуждаете". Напомню, что ранее (см. тезис III.XIII.23), Барков лицемерно утверждал, что «любая критика в <…> адрес <Горького> могла стоить не только свободы, но и жизни». Как всегда Барков не понимает предмета о котором ведет речь. «Правда» не просто «нашла возможным», а именно сама, в лице ее редактора, зав. отделом печати ЦК ВКП(б) Л. Мехлиса развязала одиозную антигорьковскую кампанию, молчаливо одобренную сверху: «<…> Мехлис <…> самолично, ни с кем не считаясь, начал кампанию против Горького: статья Заславского, статья Панферова <…> статью Панферова Мехлис усилил, вставив туда множество кусков от себя. Поведение Мехлиса одобрено свыше post factum»[1]. Причины обусловившие «храбрость» Мехлиса Чуковский указал чуть ранее: «Горький поссорился с Сталиным. «Медовый месяц их дружбы кончился»»[2]. Поскольку любовь у Сталина к Горькому кончилась, Буревестнику Революции решили показать его действительное место в насаждаемой системе социалистических ценностей. Только после смерти, Горький, как и Маяковский, был канонизирован в качестве идеала советского писателя в соответствии с известным принципом – «хорош только мертвый индеец». Как видим, в этих условиях критиковать Горького было вполне безопасно, чем и воспользовались вышеназванные видные представители когорты, по меткому определению Чуковского, «оголтело-бездарных и ничтожных людей»[3]. Они обрушились на Горького и писателей, которых он хвалил с нападками вида – «Разве секрет, что Зазубрин клеветнически писал о войне, якобы объявленной партией крестьянству <…>»[4]. ________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись от 31.01.1935. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 122. [2] Там же, запись от 20.01.1934, с. 98. [3] Там же, запись от 31.03.1969, с. 463. [4] Чуковская Е. Ц. Комментарии // Чуковский К. И. Дневник (1930-1969). – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 483. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:47 10.12.2008, 14:47
Сообщение
#408
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата Цитата IV.XXI.13. Как можно видеть, явление, метко названное К.И. Чуковским "горьковщиной", на последнем этапе жизни писателя трансформировалось в обыкновенную "сталинщину". Об этом знали не только Серафимович с Панферовым – Булгаков тоже жил не в безвоздушном пространстве. И, поскольку ни "Правда", ни "Литературная газета" свои подвалы ему не предоставляли, то вот Вам, читатель, его "закатный роман". О "горьковщине". О "сталинщине". О "Сталине советской литературы". Как мы убедились выше (см. начало данной главы), никакое якобы явление Чуковский метко не называл, а просто использовал привычную для него форму словообразования для обозначения совокупности жизненных взглядов и литературной позиции писателя. Точно так же он в своих статьях говорит и о «маяковщине»[1], не вкладывая в это понятие ни малейшего отрицательного смысла. Что касается пресловутой «горьковщины», то Чуковский описывает ее достаточно теплыми словами: «Не беда, если это выходит назойливо. Горький не боится надоесть. <…> Придирчивым читателям, пожалуй, покажется, что он мог бы и не повторять по инерции столько раз, в одних и тех же выражениях, словно заученный урок, одну и ту же привычную формулу. Но мы чувствуем, что здесь проявилось его драгоценное качество – его упорная воля: подобно другим улучшателям мира <…>, он, <…> гениально упрям в пропаганде тех своих чувств и мыслей, которые кажутся ему единоспасительными, и никогда не упустит возможности демонстрировать их снова и снова… Горький требует, чтобы мы были жалостливы <…> Ни один из русских писателей не чувствовал с такой остротой, что русская жизнь мучительна»[2] Обращаю внимание читателя на слова Чуковского о других «улучшателях мира» и предлагаю ему найти принципиальное отличие «горьковщины» от «чеховщины» и «блоковщины». Лично мне этого сделать не удалось. Впрочем, судите сами: «Здесь я говорю не о его доброте, а опять-таки о его колоссальной энергии и его страстном стремлении к самому активному вмешательству в жизнь ради того, чтобы люди зажили умнее и счастливее»; «Воспитывать всех окружающих было его излюбленным делом, причем он с удивительным простосердечием верил в педагогическую силу наставлений и проповедей, или, как он выражался, «нотаций»»[3]. «Чего же он хотел от революции? <…> Раньше всего он хотел, чтобы она преобразила людей. Чтобы люди сделались людьми»; «Мир прекрасен, но его загаживает человеческий шлак. Стоит только этому шлаку перегореть в революции, и красота мира будет явлена всем»[4]. Перефразируя самого Баркова скажу: «Разве не об одном и том же пишет Чуковский? Сказано о Чехове и Блоке, а читаешь – как будто бы о Горьком…» ___________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Ахматова и Маяковский. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 334. [2] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 345. [3] Чуковский К. И. Чехов. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 226, 261. [4] Чуковский К. И. Александр Блок как человек и поэт. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 396, 397. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:29 16.12.2008, 20:29
Сообщение
#409
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Глава XXII. «Конец романа – конец героя – конец автора» («Мертвец, хватающий живых»)
«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе» А. С. Пушкин[1] Барков утверждает, что в конце жизненного пути Горький превратился в мертвеца, хватающего живых. Право же теперь в этом положении скорее находится сам Барков, безуспешно пытающийся затянуть в могилу ускользающие от него вечно живые образы Мастера и Маргариты. Цитата IV.XXII.1. Сейчас много пишут о Горьком – уже больше в отрицательном плане. Арсенал аргументации достаточно широк – от ничего не доказывающих наскоков типа рассадинского "долгоносика" до глубоких аналитических выкладок. Встречаются и работы, авторы которых показывают некорректность огульного отрицания всего положительного, что было связано с его именем. И это правильно – осуждать Горького, – значит, осуждать самих себя. Ведь в этой личности преломились все достоинства и пороки нашего национального менталитета, которые вот уже на протяжении веков делают нас с одной стороны – великим народом, а с другой – отрицательным примером для других наций. Мои оппоненты могут поймать меня на слове – ведь в данной работе положительного о Горьком сказано не слишком много. Скорее, наоборот. Но, напомню, предлагаемое Вашему вниманию исследование посвящено творчеству Булгакова (точнее даже, – только одной из граней его творчества), а фигура Горького обсуждается лишь в том аспекте, в котором мог ее видеть Булгаков при создании своего романа. И подбор приводимых фактов определяется лишь содержанием романа "Мастер и Маргарита" – ровно настолько, насколько эти факты корреспондируются с его фабулой. Более того, в романе Булгакова явно присутствуют и элементы апологетики Горького, о чем будет сказано ниже. Как мы уже многократно убедились, фабула романа «Мастер и Маргарита» не имеет ни малейшего отношения ни к Горькому, ни, тем более, к его осуждению или апологетике. _____________________________________________________________________ [1] Пушкин А. С. Письмо к П. А. Вяземскому, вторая половина ноября 1825 г. ПСС: В 10 т. Т. 10. – М.: Наука, 1966, с. 191. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:37 16.12.2008, 20:37
Сообщение
#410
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.2. Но апологетика тоже должна быть аргументированной и не содержать в себе элементов абсурда – иначе это компрометирует саму идею. В этом плане вызывает недоумение попытка придать "детективную" окраску последним годам жизни Горького со стороны "ученого такого масштаба" как Вяч. Вс. Иванов. Да не где-нибудь, а в Америке, где он выступил в 1992 году в русской школе с докладом, название которого носит откровенно "остросюжетный" характер – "Почему Сталин убил Горького". В этом докладе "ученый с имиджем" утверждал, что "возможно, Горький принимал участие в деятельности антисталинской коалиции, существование которой обычно недооценивается – не исключено даже, что посылал сына Максима в 1934 году с поручением к Кирову". Не берусь судить, кому принадлежат оговорки "возможно" и "не исключено" – то ли докладчику, то ли опубликовавшей содержание доклада Алле Латыниной. Но осмелюсь заявить: нет, невозможно; да, исключено. И вот почему. Во-первых, Горького не убили. И не только потому, что он был нужен Сталину. Ведь тот факт, что он дожил до своих шестидесяти восьми лет, – величайшее чудо природы. Более сорока лет открытой формы туберкулеза (понятие "антибиотик" в то время было еще неизвестно), кровохарканья (он сам писал еще в 1910 году с Капри, что, когда узнал о смерти Л.Н. Толстого, у него пошла горлом кровь), одышки… И бесконечные папиросы – одна за другой, до самой смерти. Горького, несомненно вели к смерти, тем или иным образом. В недрах НКВД уже полным ходом шла подготовка будущих процессов с участием видных советских государственных и партийных деятелей, к которым Горький состоял в дружественных отношениях. Сам писатель уже потерял для режима всякую ценность как живой человек, – от него уже добились всех нужных высказываний, и, наоборот, он был чрезвычайно опасен, ибо в случае протеста слово его было бы услышано во всем мире. Если бы Горький, например, заявил, что не верит в виновность Бухарина, соответствующий процесс был бы провален подчистую. Этого Сталин ни в коем случае допустить не мог, поэтому судьба Горького была предрешена – «Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если б не грипп, не пекло, не майский ветер… И не смерть сына Максима…»[1]. _____________________________________________________ [1] Басинский П. Страсти по Максиму. – М.: ЗАО «Роман-Газета», 2007. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:40 16.12.2008, 20:40
Сообщение
#411
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.3. Напомню также, что за десять дней до 18 июня 1936 года у Горького в присутствии близких, которые фактически уже прощались с ним, состоялась клиническая смерть, из которой его с трудом вывели и которую он не только сам осознал, но и тут же прокомментировал. А ведь в тот день исход ни у кого не вызывал сомнений – приехало прощаться все Политбюро во главе со Сталиным; А.Д. Сперанский направлялся в Горки для вскрытия тела. Тогда же консилиум медицинских светил серьезно рассматривал вопрос не о том, как поднять Горького на ноги, а стоит ли вообще продолжать уколы камфоры и продлевать таким образом мучительную агонию. Вот ведь о чем шла речь в последние дни жизни писателя – мучить его дальше или дать умереть естественной смертью. И дополнительные десять дней его продержали в живых только благодаря не очень убедительному перевесу голосов корифеев медицины.Вот выдержка из письма М.Ф. Андреевой от 25 января 1912 года с Капри А.Н. Тихонову: "Общее состояние Алексея Максимовича? Могу ответить одним словом – ужасное! […] Лично Вам и вполне по секрету скажу: положение его очень опасно, хуже, чем было весной, а уже и тогда Вы ждали всего худшего, если помните…". "Докладчику с имиджем" должно быть известно, что в знаменитом доме Рябушинских, где Горький жил в Москве в последние годы, его спальня находилась не на втором, а на первом этаже, поскольку ему трудно было подниматься по лестнице. Когда художник Павел Корин пригласил Горького в свою мастерскую, а это было за пять лет до смерти писателя, визит едва не прервался на первом этаже – не было лифта. Подъем на пятый этаж превратился в эпопею. Признаюсь, такого наглого подлога я даже от Баркова не ожидал, и поэтому до прочтения указанного письма Андреевой успел поверить ему, что в 1912 году Горький действительно находился при смерти. Но действительность как всегда опровергла все барковские хитросплетения. Вот подлинный, не препарированный Барковым текст письма Андреевой: «Общее состояние Алексея Максимовича? Могу ответить одним словом – ужасное! Нервы издерганы, болят при малейшем волнении, неврастения – возрастает, как усиливается малокровие и общее истощение, так как он почти не ест, мало спит, совсем не гуляет, а работает и читает от четырнадцати до шестнадцати часов в сутки. Лично Вам и вполне по секрету скажу: положение его очень опасно, хуже, чем было весной, а уже и тогда Вы ждали всего худшего, если помните. Тоска его все растет, личную жизнь свою он совершенно вычеркнул из обихода, и чем все кончится, когда – я судить не берусь, боюсь – всего.Разумеется, если бы устроилось новое дело, а особенно такой журнал – это было бы большим плюсом, так как сразу подняло бы его настроение»[1]. _________________________________________________________ [1] Письмо М. Ф. Андреевой к А. Н. Тихонову от 25.01.1912 // Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. – М.: Искусство, 1968, с. 219. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:42 16.12.2008, 20:42
Сообщение
#412
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.4. В мае 1934 года скоропостижно скончался сын Горького Максим Алексеевич. И вовсе не потому, что его кто-то специально убивал, хотя разговоры об этом тоже были, а потому что с больными легкими в нетрезвом виде проспал холодную ночь на лавке. Напомню реакцию Горького на смерть дочери Кати (она умерла в пятилетнем возрасте из-за болезни легких) – это было в 1906 году, то есть, почти за тридцать лет до смерти Максима: он писал с Капри Екатерине Павловне, своей супруге, что у детей – перешедшая от него по наследству болезнь легких, и что Максима нужно поэтому особенно беречь. Логическая связность рассуждений у Баркова явно нарушена. В том то и вопрос, как могло получиться, что сын Горького в нетрезвом состоянии уснул не на лавке, а на берегу реки «на земле, с которой только что сошел снег»[1]? Куда смотрела охрана и прислуга государственной дачи Горки-10? Все это слишком очевидно напоминает известные обстоятельства смерти Сталина, когда никто не оказал ему помощи в его предсмертный час. Приведу мнение биографа Горького Павла Басинского: «Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких, – такая комбинация была убийственной для него. Смерть Максима могла произойти и без непосредственного участия в «заговоре» врачей. Но если Сталин «заказал» Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков в данном случае мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не «большим людям» Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим, но самому-самому «большому человеку» – Сталину. При этом, как показывают недавно обнародованные факты («Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности». – Казань, 1997), проблема состояла в том, что именно Генрих Ягода и был одной из главных фигур «правой оппозиции», а вовсе не исполнителем чужой воли. <…> Помощник Ягоды П.П.Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года (материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности) рассказал, что Ягода, в случае победы «оппозиции», видел себя в кресле премьер‑министра: «Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так, о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благонравова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не назвал, на пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. Секретарем ЦК, говорил он, будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. <…> Бухарин, говорил он, будет у меня не хуже Геббельса».Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в поистине гордиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела»[2]. ___________________________________________________________ [1] Басинский П. Страсти по Максиму. – М.: ЗАО «Роман-Газета», 2007. [2] Там же. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:43 16.12.2008, 20:43
Сообщение
#413
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.5. Вяч. Вс. Иванову вряд ли не известно о том, что в последние сутки для поддержания жизни Горького было использовано 256 кислородных подушек, что первыми словами Сперанского после вскрытия были: "Легкие – труха". Почему "вряд ли не известно"? – Да потому, что следующие слова Сперанского "Ну, как ваше дите?", адресованные жене писателя Всеволода Иванова, похоже, имеют некоторое отношение к "докладчику с имиджем". И уж когда речь идет о предполагаемом убийстве, то подозревают всех, кто находился рядом. Всех без исключения. Но понимает ли докладчик, на чью светлую память он походя бросает тень подозрения?.. Непонятно почему Барков с такой помпой преподносит общеизвестные сведения о количестве использованных Горьким кислородных подушек. – Как отмечает биограф Горького Нефедова, в последний год жизни «подчас для Горького приготавливали около трехсот кислородных подушек в день»[1]. «"Я начинаю дряхлеть. Падает работоспособность… Сердце работает лениво и капризно", – пишет он в мае 1935 года. Когда Горький работал в парке, неподалеку стояла машина с кислородной подушкой – на всякий случай. Такая подушка была под рукой и во время бесед с гостями»[2]. Возможно легкие Горького действительно превратились в труху, а возможно и нет. – Как делались многие вскрытия безвременно скончавшихся известных людей в то время сегодня хорошо известно: под угрозой собственной жизни и жизни своих близких врачи умудрялись не то что исказить состояние внутренних органов, но даже и следы пулевых ранений не заметить. Но с точки зрения обсуждаемого вопроса о гипотетическом убийстве Горького, в данном случае достоверность диагноза Сперанского не имеет значения, так как в любом случае, даже если ресурс легких Горького был действительно полностью исчерпан, лица жаждавшие его скорейшей смерти узнали об этом только после вскрытия. Что касается упоминания Барковым светлой памяти матери Вяч. Вс. Иванова, то странно, что ему даже не пришло в голову, что именно светлая память матери и ее рассказы из первых уст и послужили основанием для гипотезы Иванова. ___________________________________________________________________ [1] Нефедова И. М. Максим Горький. Биография писателя. – Л.: Просвещение, 1979. [2] Там же. Сообщение отредактировал tsa - 1.2.2009, 17:05 -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:45 16.12.2008, 20:45
Сообщение
#414
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.6. Во-вторых, по своим личным качествам Максим Алексеевич Пешков никак не мог играть роль связника заговорщиков. О покойниках плохо не говорят, но, хотя и пишут о нем, что "…с 4.1917 г. – в партии, в 1917-18 был на стороне Ленина", следует признать неприятную истину: сын Горького вырос шалопаем, которого интересовали в основном автомашины, а в последние годы жизни – еще и выпивка. "Существа более безответственного я в жизни своей не видел", – вспоминал позже В. Ходасевич. И это действительно так. В 1918-1919 гг. Максим Алексеевич служил в Чека, Феликс Эдмундович Дзержинский даже подарил ему коллекцию марок, изъятую при обыске у какого-то "буржуя". Конечно, какими-то секретами он располагал, но слишком уж охотно делился ними с посторонними. В. Ходасевичу, например, рассказывал о докладе, который сделал в Москве убийца царской семьи Белобородов; назвал ему двух поэтов, сексотов Чека… Доводы Баркова совершенно несостоятельны. Связник далеко не всегда знает, зачем его используют, и, как правило, совершенно не знает характера информации, которую он передает. Максим был для отца одним из немногих реальных каналов связи с окружающим миром, и вполне возможно, что в каких-то случаях Горький действительно пытался через него установить собственную связь со своими корреспондентами. Это обстоятельство вполне могло послужить основанием для его ликвидации. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:46 16.12.2008, 20:46
Сообщение
#415
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.7. В-третьих, Вяч. Вс. Иванов не может не знать о том, что Максим Алексеевич Пешков находился под сильным влиянием своей матери Екатерины Павловны, верой и правдой служившей ВЧК-ОГПУ от периода Дзержинского вплоть, пожалуй, до самого Берии. По крайней мере, до 1937 года, когда был закрыт возглавлявшийся ею т.н. "Политический красный крест", который не таясь располагался в одном из зданий госбезопасности. Когда после революции Горький с Андреевой составляли списки национальных реликвий, подлежавших продаже за границу (тех самых, по которым сейчас так сокрушается "Огонек"), Екатерина Павловна вместе с будущим заместителем наркома просвещения Страны Советов Н.К. Крупской составляла списки "вредных" книг, подлежавших изъятию из библиотек и уничтожению. Стоит, наверное, напомнить, что, находясь на вилле Иль Сорито (вторая "эмиграция" Горького), Максим Алексеевич простодушно похвастал В. Ходасевичу о том, что Феликс Эдмундович обещал ему по возвращении в Москву автомобиль. А Екатерина Павловна показывала мундштук, который купила за границей в подарок "железному Феликсу". Какое отношение данная информация может иметь к обсуждению версии об устранении сына Горького, я право не в состоянии понять. В те смутные времена одного за другим убрали множество «верой и правдой служивших ВЧК-ОГПУ» людей. И никому из них не помогли самые тесные связи с большевистскими вождями, особенно с давно уже лежащим в могиле Дзержинским. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:49 16.12.2008, 20:49
Сообщение
#416
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.8. Нелишним будет вспомнить и о том, что поездки Екатерины Павловны за рубеж носили далеко не частный характер. Она играла, например, одну из ведущих ролей по склонению Шаляпина к возвращению в Страну Советов, не особенно скрывая при этом, что поручение такое дано ей лично Иосифом Виссарионовичем. Выполнить это поручение ей так и не удалось. Зато Максиму иногда везло больше. Полагаю, что при подготовке своего доклада в США Вяч. Вс. Иванов знакомился с содержанием материалов Горьковских чтений. В одном из томов можно найти текст записки Максима Алексеевича Ленину с отчетом о выполнении поручения по "перевоспитанию" своего отца. Еще тогда, до второй эмиграции Горького в 1921 году, Воланды использовали Максима в качестве эдакого котенка Бегемота. Так что в "оподлении" Горького, которое происходило на глазах других писателей, есть вклад и его родного сына. Простите, господа, но из песни слова не выкинешь… Тем более что вы сами первыми затронули эту тему. Полный бред. К описанным событиям булгаковские образы не имеют никакого отношения. Скорее бы сюда подошел образ Павлика Морозова. Роман Булгакова не содержит ни малейшего намека ни на пребывание Маргариты за рубежом, ни на оподление Бегемотом кого бы то ни было. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 20:52 16.12.2008, 20:52
Сообщение
#417
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата Цитата IV.XXII.9. В-четвертых, тот Горький, каким его видели знавшие близко литераторы, просто не мог входить ни в какую антисталинскую коалицию. Да простят меня маститый ученый и Алла Латынина, но "оподление" может быть только одной свежести – первой. Можно с оговоркой воспринять частное мнение Бунина, или Блока, или Мережковского, или Гиппиус, или Чуковского… Но когда все эти люди, знавшие Горького не по архивным бумажкам, дают одинаковую, пусть даже неожиданно удручающую характеристику, их мнению нельзя не верить. Невозможно сбросить со счетов и резко отрицательное отношение к Горькому со стороны М. Пришвина, зафиксированное в его дневнике как раз в то время, когда создавался роман "Мастер и Маргарита", и как раз вместе с записями о том, что их автор общался с Булгаковым. Поэтому в данном случае я не верю Вяч. Вс. Иванову. Не согласен с ним в этом вопросе также и Институт мировой литературы им. А.М. Горького: по его мнению (комментарий Л.А. Спиридоновой к рассекреченной переписке Горького с Г.Г. Ягодой), эти письма опровергают "предположение В.В. Иванова" о заговоре Горького с Ягодой против Сталина. Жаль только, что некоторые публикации всеми уважаемой "Литературки" иногда приобретают характер, достойный разве что газеты "Совершенно секретно". Как мы убедились ранее (см. тезис IV.XIX.13), никакой одинаковой «удручающей характеристики» представители русской интеллигенции Горькому не давали. Наоборот, многие, несмотря на то, что поздний Горький явно отличался от того, с кем они когда-то имели дело, сохранили и предали потомкам доброе мнение о нем. Вот, например, мнение Шаляпина, написанное уже после его окончательного разрыва с Горьким: «Добро есть красота, и красота есть добро. В Горьком это было слито»[1]; «Я, с своей стороны, никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И все, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру»[2]. Как видим, Шаляпин до конца остался верен высоким идеалам своей дружбы и не унизил себя попыткой обличения Горького, как это сделал Бунин. К сожалению того же нельзя сказать о Горьком. Когда-то в далеком уже 1921 году его душа отторгла ужасы большевизма и он, казалось навсегда, покинул страну советов. Но прошли годы, острота воспоминаний сгладилась, и, наоборот, заострилась тоска по родине. В 1928 году Горький приехал с ознакомительной поездкой в СССР и обнаружил, что он вернулся совсем в другое общество. За какие-то семь лет страна поднялась с колен и совершила гигантский качественный скачок: прошел революционный хаос, воцарился порядок, невиданными темпами развивалась промышленность, строились города. Опять же все это было показано Горькому в самом выгодном для Сталина свете, в результате писатель сломался и уверовал в возможность реализации идеалов большевизма в СССР. В архиве Горького сохранился черновик ответа Шаляпину, чрезвычайно низкого как по форме, так и по содержанию. Такие резкие смены отношений с дружбы на вражду были типичны для большевиков, – человек, чье мышление шло вразрез с их собственным, немедленно начинал ощущаться ими врагом со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 1932 году у пролетарского писателя уже не нашлось свободного кусочка сердца для старого друга – все место давно уже было занято политизированными штампами и классовой ненавистью к упрямо несдающимся врагам. В своем ответе Горький писал: «Мне кажется, что лжете Вы не по своей воле, а по дряблости Вашей натуры и потому, что жуликам, которые окружают Вас, полезно, чтобы Вы лгали и всячески компрометировали себя. Это они, пользуясь Вашей жадностью к деньгам, Вашей малограмотностью и глубоким социальным невежеством, понуждают Вас бесстыдно лгать. Зачем это нужно им? Они – Ваши паразиты. Один из главных и самый крупный из них сказал за всех остальных веские слова: «Федя воротится к большевикам только через мой труп». Люди, которые печатали книгу Вашу, вероятно, намеренно не редактировали ее, – пусть, дескать, читатели видят, какую чепуху пишет Шаляпин. У них нет ни капли уважения к Вашему прошлому, если б оно было, они не оставили бы в книге постыдных для Вас глупостей… Эх, Шаляпин, скверно Вы кончили…»[3]. Как ни печально, но эти строки невозможно объяснить какими-то конъюнктурными обстоятельствами, или давлением на Горького со стороны, так как аналогичное возмущение Шаляпиным Горький в это же самое время высказал и в частном письме своему секретарю – Крючкову. Следовательно, нет ни малейших сомнений, что писатель искренне поверил в создаваемый в советской стране образ врага и сталинский тезис об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма. Таким образом, скверно кончил не Шаляпин, а сам Горький, дорого заплативший за то, что позволил себе перестроить свое мышление на основе созданных к тому времени советских мифов и прежде всего ненависти к мнимым врагам и недругам советской власти.И все же Горький так и не отправил это не красящее его письмо. Подлинную причину этого мы вряд ли узнаем, единственно что можно сказать со всей уверенностью – с недостатком времени это не было связано – за четыре года можно было бы найти время закончить письмо. Скорее всего, Горький отложил ответ, почувствовав фальшь собственных высказываний, и чем дальше, тем меньше у него было оснований вернуться к письму, поскольку его отношения с советской властью натянулись, и его «"заперли" в СССР. Фактически посадили под домашний арест»[4]. Теперь он на собственной шкуре мог оценить справедливость оценок советской власти Шаляпиным. __________________________________________________________________ [1] Шаляпин Ф. И. Маска и душа // Шаляпин Ф. И. Воспоминания. – М.: Локид, 2000, с. 453. [2] Там же, с. 455-456. [3] Дмитриевская Е., Дмитриевский В. Федор Шаляпин рассказывает… // Шаляпин Ф. И. Воспоминания. – М.: Локид, 2000, с. 18. [4] Басинский П. Страсти по Максиму. – М.: ЗАО «Роман-Газета», 2007. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 21:01 16.12.2008, 21:01
Сообщение
#418
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.10. И, наконец, в пятых. За год до рассматриваемой публикации в той же "Литературной газете" помещена глубокая по степени проработки вопроса статья Н. Примочкиной "Павел Васильев: "Но как не хватает воздуха свободы!" О роли М. Горького в судьбе поэта", где говорится: "Горький не захотел или не сумел оценить по достоинству Павла Васильева – яркого, самобытного поэта. Мало того, сыграл в его судьбе довольно мрачную, даже трагическую роль […] Сохранился черновик письма Горького тогдашнему редактору "Правды" Л.З. Мехлису, из которого видно, что последний, сообщая порочащие сведения о М. Пришвине, А. Платонове и П. Васильеве, старался подвигнуть Горького на публичное выступление против этих писателей. Вот что писал Горький в ответ: "За информацию о трех писателях – очень благодарен Вам, Лев Захарович […] П. Васильева я не знаю, стихи его читаю с трудом. Истоки его поэзии – неонародническое настроение – или: течение – созданное Клычковым – Клюевым – Есениным, оно становится все заметней, кое у кого уже принимает русофильскую окраску и – в конце концов – ведет к фашизму". Вот после этого и появляется статья за подписью Горького с тем самым – "От хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа". За этой статьей последовал арест П. Васильева, затем второй, уже со смертным приговором. Так что "литературная забава" Горького стоила поэту жизни. Даже приведенные Барковым факты свидетельствуют, что Горький не гонялся по личной инициативе за советскими писателями, коль скоро его на это «старались подвигнуть». Что касается упомянутой статьи Горького «Литературные забавы», то она была написана не с целью заклеймить кого-либо, и представляет собой, прежде всего, подробный критический разбор и анализ художественных произведений советских писателей. Первый раздел статьи, под названием «О литературных забавах», в виде самостоятельной статьи впервые был напечатан в центральных газетах 14 июня 1934 года. Второй и третий разделы, под названием «Литературные забавы» с обозначением II и III, впервые были напечатаны в 1935 году 18 и 24 января, соответственно. В отношении Павла Васильева в первой части статьи сказано следующее: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, – другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа»»[1]. Горький совершенно искренне не понимает стремления Васильева, подражая Есенину, вести богемную жизнь с пьянством, мордобоем, скандалами, битьем жены, антисемитскими выходками, и пишет, что такое поведение «было характерно для прошлого, для того разлада между средой и системой взглядов литератора, который существовал до революции»[2]. Никакой особой роли в судьбе Павла Васильева критика Горького не сыграла – при его образе жизни и поведении на людях своей судьбы в том обществе он избежать не мог. Вот история его арестов: «В 1932 вместе с Л. Н. Мартыновым и др. молодыми поэтами Васильев на несколько месяцев подвергался аресту по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов «Сибиряки». В 1935, после подписанного Н. Асеевым, А. Жаровым, В. Инбер, А. Сурковым, Б. Корниловым, А. Прокофьевым и др. письма в газету «Правда», осужден за «злостное хулиганство», весной 1936 освобожден, в феврале 1937 вновь арестован и 15 июля приговорен к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе»»[3]. Таким образом, Васильев погиб в печально знаменитом 1937 году уже после смерти Горького и вне связи с его статьей. Обратите внимание, первый раз Васильева арестовали в 1932 г., то есть за два года до выхода статьи Горького. Второй раз его арестовали через год после выхода статьи и не в связи с ней, а в связи с письмом группы его товарищей по литературному цеху.Таким образом, мы очередной раз смогли убедиться, как недобросовестен и мелочен опус Баркова по степени проработки обсуждаемого вопроса. ____________________________________________________________________________ [1] Горький М. Литературные забавы. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. – М.: Гос. изд. Худож. лит., 1953, с. 250. [2] Там же, с. 251. [3] Павел Васильев. – Энциклопедия «Кругосвет» – http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/ar.../df/1006924.htm -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 21:02 16.12.2008, 21:02
Сообщение
#419
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.11. Здесь обращает на себя внимание технология "оподления". Система в лице Мехлиса направляет ему "компрматериалы" на литераторов, Горький весом своего авторитета "легализует" их (в "Литературных забавах" нет, конечно, ссылок на Мехлиса; зато есть ссылка на письмо оставшегося анонимным "партийца", который якобы возмущается хулиганством П. Васильева – знакомый прием инспирированной ГПУ "опоры на общественное мнение": "Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически … это враг"), а затем Система уже на основании статьи "самого" Горького дальше делает свое дело. Кстати, о Мехлисе: именно он 26 октября 1932 года при встрече Сталина с писателями на квартире Горького очертил в своей речи задачи создававшегося ССП СССР как "пристальней присматриваться друг к другу, "прочистить" свои ряды". Уже одного этого приведенного Н. Примочкиной факта достаточно, чтобы серьезно усомниться в правдоподобности гипотезы Вяч. Вс. Иванова. Нет, в такой прочной связке с Мехлисом со Сталиными не борются… Барков опять передергивает. Мехлис был редактором центральной партийной газеты и его переписка с Горьким вполне соответствует духу той эпохи. Кроме того, обращает на себя внимание отсутствие прочной связки Мехлиса и Горького. – Заказ якобы поступил на троих – «М. Пришвина, А. Платонова и П. Васильева», а к исполнению принят один Васильев. Почему? – Да потому, что буйные кутежи Васильева привели к тому, что против него выступил даже его личный друг – Борис Корнилов, сам так же впоследствии репрессированный. Кроме того Горький вовсе не идет на поводу у анонимного партийца, и не только проверяет сообщаемые им сведения, но даже лично беседует с Васильевым: «Васильев Павел, он бьёт жену, пьянствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношения к жене»[1]. Я понимаю, что в наше время личная жизнь Васильева считалась бы его личным делом. Но в СССР строился коммунизм, то есть коммуна, где каждому до всего есть дело. И по поводу мордобоя и пьянства мужей жены прежде всего обращались к администрации по месту работы мужа, а также в профком или в партийный комитет. Таким образом, действия Горького вполне соотносятся с духом времени. ________________________________________________________________ [1] Горький М. Литературные забавы. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. – М.: Гос. изд. Худож. лит., 1953, с. 251. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.12.2008, 21:03 16.12.2008, 21:03
Сообщение
#420
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXII.12. Кстати, не напоминает ли горьковская технология "оподления" взаимодействие Мастера с персоналом клиники Стравинского?.. Вот, в частности, пример из реальной жизни того, что вполне могло бы быть описано в категориях "Мастер – клиника Стравинского – Иванушка Бездомный": "В 1930 году Максим Горький, пребывавший в солнечном Сорренто, получил письмо от студента Среднеазиатского индустриального института Ивана Шарапова. Молодой коммунист, как на духу, высказывал человеку, о котором знал только то, что тот является великим пролетарским писателем, свои самые сокровенные мысли. Вырождение советского общества, бюрократизм, мещанство, разложение партии и комсомола. Что любопытно: об этом писал сам Горький в своих ставших известными десятилетия спустя "Несвоевременных мыслях". Но […] Горький пишет своему наивному корреспонденту: "За такие слова, сказанные в наши дни, в нашей стране, следовало бы философам – подобным Вам – уши драть! Люди, подобные Вам, должны быть удаляемы от молодежи, как удаляют прокаженных. Наша молодежь живет и воспитывается на службу революции, которая должна перестроить мир. Уйдите прочь от нее, Вы больной и загнивший". Но самое главное: "Предупреждаю Вас, что письмо Ваше я сообщу в агитпроп. Я не могу поступить иначе". С трудом верится, что если бы Барков в годы своего добровольного служения сатанинской системе получил аналогичное письмо, то дал бы на него иной ответ. Думаю, что аналогично Горькому он бы составил ответ в том же искреннем духе, в рамках своего искаженного большевистским восприятием мира мировоззрения. Что касается Мастера и клиники Стравинского, то мы уже убедились, что с Горьким они никак не связаны и никакого «оподления» Мастера в романе нет (см. тезис I.III.16). Есть только «оподление» Мастера и Горького со стороны Баркова и собственно подробному разбору технологии этого «оподления» и посвящена моя книга. Хочется только верить, что за это «оподление» Барков взялся не ради корыстных целей, а искренне уверовав в свои безумные теории, стал подгонять под них факты. Иначе слишком уж большой грех принял он на свою душу. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 2:45 |