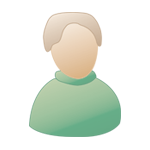Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 16.11.2008, 13:15 16.11.2008, 13:15
Сообщение
#381
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XIX.4. А "ругательства" Мережковского содержались в его статье "Открытое письмо Уэллсу", где имеются такие слова: "…Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит "спасение" Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись. Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою "спасает" Горький? Ценою оподления… Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький – не лучше, а хуже всех большевиков – хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького…" Это Мережковский писал уже в эмиграции. Но еще до выезда, буквально через две недели после большевистского переворота, его мнение было не менее резким. Вот как оно видится в дневниковой записи его супруги (6/19 ноября 1917 года): " У Х. был Горький […] Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается. – Я… органически… не могу… говорить с этими… мерзавцами. С Лениным и Троцким […] Я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в "Новой жизни" не отделят вас от б-ков, "мерзавцев", по вашим словам. Вам надо уйти из этой компании […] Он встал, что-то глухо пролаял: – А если… уйти… с кем быть? Дмитрий живо возразил: – Если нечего есть – есть ли все-таки человеческое мясо?" Итак, уже в первые дни после захвата большевиками власти Чуковский, Блок и Мережковский видели в Горьком то, что позже описал Булгаков: служение Системе, которое в романе символизирует связка ключей от палат-камер в клинике Стравинского. Давайте посмотрим, в какой форме проявлялось то, что Мережковский охарактеризовал как "цена оподления". Связка ключей символизирует служение Системе только в воспаленном воображении Баркова. А что до оценки роли Горького в деле спасения русской культуры, то на это счет существуют и оценки полярно противоположные мнению «бойкого богоносца»[1], как образно назвал Мережковского К. Чуковский. Например, выдающийся художник-портретист Ю. Анненский писал, что «<…> Горький основал «Комиссию по Охране Памятников Искусства и Старины». Его заслуги в борьбе с разрушительной инерцией революции неоценимы»[2]. ________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 11.12.1919,. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 135. [2] Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 т. Т. 1. – М.: Худож. лит., 1991, с. 32. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.11.2008, 13:18 16.11.2008, 13:18
Сообщение
#382
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XIX.5. Корней Чуковский, запись от 12 ноября 1918 года: "Вчера заседание – с Горьким [в редакции "Издательства Всемирной Литературы"]. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту, – и вдруг потупился, заулыбался вкось, заиграл пальцами. – Я скажу, что вот, мол, только при Рабоче-Крестьянском Правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. […] Нужно, понимаете ли, задобрить…". А вот его же дневниковая запись от 13 ноября 1919 года: "Вчера встретился во "Всемирной" с Волынским. Говорили о бумаге, насчет ужасного положения писателей. Волынский: "Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат"… – А разве Горький – дипломат? – "Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там – с ними – другое! Это дипломатия очень тонкая!" Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого: как большевистски говорил Г. с тов. Зариным, – я не верил ушам, и ушел, видя, что мешаю". Еще через четыре дня, 17 ноября 1919 года: (К.И. Чуковский приводит слова Мережковского): "Горький двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами – он наш. Когда он с ними – он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь". В том же дневнике 4 января 1921 года приводится изложение выступления Горького на заседании "Всемирной литературы": "Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политич. направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хороший писатель Достоевский не имел успеха потому, что не был либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил Пушкина. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист – плох. Что же делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат […] Потому-то писатели теперь молчат, а те, к-рые пишут, это главн. обр. потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить – пожалуйста!" Никто не захотел. "Как любит Г. говорить на два фронта", – прошептал мне Анненков". Об этой склонности "говорить на два фронта" знали и Бунины в Одессе: "Жена Плеханова говорила, что Горький сказал, что "пора покончить с врагами советской власти". Это Горький, который писал все время прошлой зимой против советской власти…" Как несомненно талантливый русский человек, «бойкий богоносец»[1] Мережковский выразил в своих словах о двурушничестве, прежде всего, свой собственный характер, отраженный в воспоминаниях современников: «Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план: взять в свои руки «Ниву». Я ничего этого не знал <…> я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на «Крокодила» им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, – и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделались собачьи, голодные лица, словно им показали кость <…> но какие жадные голодные лица»[2]; «Зин. Гиппиус написала мне милое письмо – приглашая придти – недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич – согнутый дугою, неискреннее участие во мне – и просьба: свести его с Лунач<арским>! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкепанидзе? Не могу ли я достать им бумагу – охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра» и т.д.? Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит, – Мережк<овские> первые будут клеветать на меня»[3]; «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал: – Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу». Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра», да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцара[па]ть еще тысяч сто»[4]. ______________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 11.12.1919,. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 135. [2] Там же, запись от 21.02.1917, с. 74. [3] Там же, запись от 15.10.1918, с. 93. [4] Там же, запись от 09.07.1919, с. 114. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.11.2008, 13:25 16.11.2008, 13:25
Сообщение
#383
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XIX.6. Слова Мережковского о том, что Горький "азефствует искренне", подтверждаются еще одной дневниковой записью Чуковского – от 3 октября 1920 года. Корней Иванович по свежим впечатлениям зафиксировал очень характерное высказывание Горького: "Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить, – и я примирился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойственен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя". Это откровение прокомментировано Чуковским следующими словами: "Я сидел ошеломленный". Обращенные к Чуковскому слова Горького очень ясны и понятны. – В том, что Горькому приходится лукавить, лгать и притворяться вина власти, а не желание Горького. Кому довелось жить в советское время, должен помнить, что естественная ложь сопровождала советского человека от рождения до смерти. Но Горький хоть нашел в себе мужество признаться в этом и примириться не с ложью, а с признанием своей вины и правом людей осуждать его за это. Впрочем, для Баркова и внимающего ему читателя здесь главное впечатление создают слова Чуковского – «Я сидел ошеломленный». Обратимся же к первоисточнику и убедимся, что Чуковского ошеломили не слова Горького о необходимости лукавства в условиях советской власти, а нечто иное: «Почему вы разлюбили «Всем. Лит.»? – спросил я. – Теперь вы любите «Дом Ученых»? – Очень просто! – Ведь из «Дома Ученых» никто не посылал на меня доносов, а из «Всем. Лит.» я сам видел 4 доноса в Москве, в Кремле (у Каменева). В одном даны характеристики всех сотрудников «Всем. Литер.» – передано все, что говорит Алексеев, Волынский и т.д. Один только Амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде. (Намек на то, что Амф. и есть доносчик). Другой донос – касается денежных сумм. Все это мерзко. Не потому, что касается меня, я вовсе не претендую на чью-нибудь любовь, как-то никогда это не занимало меня. Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить, – и примирился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя». Я сидел ошеломленный (курсив Чуковского – С.Ц.). Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти условия будут не приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего <…>»[1]. Для меня несомненно, что Чуковского, прежде всего, ошеломила приоткрывшаяся ему картина человеческой мерзости, царящей во «Всемирной Литературе». Но В. Каверин обращает внимание и на другой возможный нюанс восприятия слов Горького Чуковским: «Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен»[2].Но если Горький и Чуковский вели себя двойственно с системой, то Барков позволяет себе без зазрения совести лукавить, лгать и притворяться перед своим читателем. Собственно если бы он вел себя иначе, то в написании своей книги споткнулся бы уже на первой ее странице, ведь без лжи и передергивания нельзя состряпать подобное примитивное сочинение. Но все же, – «Если нечего есть – есть ли все-таки человеческое мясо?» Даже если это «мясо» столь ненавистного Горького? _______________________________________________________ [1] Там же, запись от 03.10.1920, с. 148. [2] Каверин В. Дневник К. И. Чуковского // Чуковский К. И. Дневник (1901-1929). – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 6. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.11.2008, 13:28 16.11.2008, 13:28
Сообщение
#384
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XIX.7. Следовательно, Горький "азефствовал" вполне осознанно, у него для самооправдания была наготове целая концепция. Как здесь не вспомнить "муки совести" булгаковского Мастера – "И ночью при луне мне нет покоя"… У Булгакова нигде не сказано, что Мастера мучила совесть. Видно Барков совершенно повредился в уме на почве своей навязчивой идеи. Точно как поручик Ржевский, которому всюду чудился намек на предмет, занимавший все его мысли. В данном случае Мастер всего лишь повторяет слова своего героя – Пилата – «И ночью, и при луне мне нет покоя»[1]. Но совесть самого Мастера чиста – он никого не предал, не оклеветал, не отправил на плаху. Если он и виноват, то только перед самим собой, что у него не хватило мужества выдержать противостояние с Системой. Однако он и не смирился с ней и сохранил душевную свободу, пусть и ценой добровольного заключения в психиатрическую больницу. ________________________________________________________ [1] Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Избр. произв.: В 2 т. Т. 2. – К.: Дніпро, 1989, с. 646. Цитата IV.XIX.8. Еще более резкая оценка "азефству" Горького содержится в критической статье П. Пильского: "Умилительно: в горьковской книге Скиталец поруган, но в "Красной Нови" этот Скиталец почтительнейше поместил "Воспоминания о Горьком". Впрочем, так ведь и было с двумя братьями, – и один из них звался Авелем, и его убил Каин". Психологическую подоплеку такого поведения раскрывают воспоминания А. Штейнберга: "Однажды в канун нового, 1918 года собравшиеся затеяли игру: пусть каждый напишет на бумажке свое заветное стремление, подписываться не обязательно. Горький начертал: "Власть" – и подписался". Иванов-Разумник, рассказавший это эпизод Штейнбергу, оценил его так: "Алексея Максимовича интересует власть, но не политическая, и не полицейская, не дай Господь! а власть чисто духовная, основанная на духовном авторитете писателя". Штейнберг добавляет, что Горький мечтал "о расширении империи его литературной власти". Он передает слова Ольги Форш, хорошо понимавшей Горького: "Горький должен избавиться от своего тщеславия…" Оценивая подобные байки нужно отделять зерно от плевел, а овец от козлищ. На звание факта здесь может претендовать только желание Горького обрести власть. Но причины этого желания нам неизвестны и любые оценки этого факта крайне субъективны. Не будем забывать о том, что Горький был не просто крупный писатель, а прежде всего, крупный общественный деятель. Так что желание к изменению общественной жизни для него вполне естественно. Перефразируя слова А. Лебедя о советской власти, скажу, что тот, кто стремится к власти ради самой власти – человек никчемный для общества. Но тот, кто никогда не мечтал обрести власть и навести порядок в окружающем мире, тот человек ничтожный. Цитата IV.XIX.9. (Не отсюда ли "Я – мастер"? – А.Б.). Не отсюда. Мастер не тщеславен. Он только замкнут на себе и своем внутреннем мире. Он возвел перегородку между собой и внешним миром, и не хочет, чтобы из-за нее до него что-либо доносилось. Для нормального человека это может быть предосудительным, однако Мастер душевнобольной и неподсуден логике здравого мышления. Цитата IV.XIX.10. "Он же необыкновенно честолюбив. Подумайте только, что он делает? Он хочет прибрать к рукам все, и прежде всего литературу: как Ленин правил Россией, так Горький старается править литературой… Горький как бы проявляет необыкновенную широту и терпимость, на самом же деле за этим кроется не что иное, как стремление к самоутверждению". В романе Булгакова нет ни малейшего намека на честолюбие Мастера, скорее можно назвать его человеком в футляре, – он изначально жил в мире своих иллюзий и своего творчества. В отличие от Горького, стихи Ивана Мастеру совершенно неинтересны и прибирать их к своим рукам или править творчеством Ивана он не собирается. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.11.2008, 13:30 16.11.2008, 13:30
Сообщение
#385
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XIX.11. Не может не вызвать прямой ассоциации с романом Булгакова и такое свидетельство В.Н. Буниной, сделавшей 24 февраля/9 марта 1919 года в занятой белой армией Одессе такую запись в своем дневнике: "Был у нас Гольберштадт. Это единственный человек, который толково рассказывает о Совдепии. Много он рассказывал и о Горьком. Вступление Горького в ряды правительства имело большое значение, это дало возможность завербовать в свои ряды умирающих от голода интеллигентов, которые после этого пошли работать к большевикам […] Горький вступил в правительство, когда в одну ночь было казнено 512 человек". Поистине, если нечего есть, есть ли все-таки человеческое мясо?.. Я буду крайне благодарен любому критику, который сможет указать мне, в какой связи запись В. Н. Буниной находится с романом «Мастер и Маргарита»? Человеческое мясо там вроде не едят, только жарят баранину. Даже умирая от голода, Мастер не стал продавать свое вдохновение, а предпочел свободе тела свободу духа в сумасшедшем доме. А что касается Горького, то в день его вступления в правительство никакие массовые казни не отмечены. Цитата IV.XIX.12. "Горький […] заявил вызывающе, что ему до царства божия нет дела, а есть дело лишь до царства человеческого; что за чечевичную похлебку материальных, физических благ он с радостью отдаст все бездны и прорывы в нездешнее, которыми так счастливы другие; что накопление физических удобств и приятностей жизни есть венец и предел его грез". Ознакомившись с контекстом данной цитаты любознательный читатель может узнать, что его опять бессовестно обманывают и выдают драную кошку за упитанного жирного зайца. – Барков пытается создать впечатление, что Горький лично стремился к «накоплению физических удобств и приятностей жизни», в то время как у Чуковского речь идет не о личных устремлениях Горького, а о его отношении к людям – «Главное – люди, а Бог – производное»[1]. Это отношение Чуковский противопоставляет позиции русской литературы, призывавшей к «отрешению ото всякой земной суеты»[2]: «Людскими бедами эта литература всегда занималась <…> ради разрешения глубочайших этических и философских проблем, не столько жаждая изменения нашего внешнего быта, сколько – внутреннего перерождения наших душ. Она всегда лишь о душе и хлопотала, а телу – чем хуже, тем лучше <…>Горький резко отгородил себя от всех тайновидцев и заявил вызывающе, что ему до царства божия нет дела, а есть дело лишь до царства человеческого; что за чечевичную похлебку материальных, физических благ он с радостью отдаст все бездны и прорывы в нездешнее, которыми так счастливы другие; что накопление физических удобств и приятностей жизни есть венец и предел его грез. И пусть тайновидцам эти грезы не нравятся, пусть они зовут их беспросветно-мещанскими, куцыми, плоскими, недостойными души человеческой, Горькому это не страшно – было бы людишкам облегчение: «жалко их, очень маятно живут, очень горько, в безгласии, в неисчислимых обидах»»»[3]. _____________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 347. [2] Там же, с. 348. [3] Там же, с. 348. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 16.11.2008, 13:47 16.11.2008, 13:47
Сообщение
#386
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата Цитата IV.XIX.13. Итак, мы ознакомились с мнениями о Горьком целой плеяды русских интеллигентов – Блок, Бунины, Мережковский и Гиппиус, Чуковский, Форш… Интеллигентов, единодушных в резко негативном отношении к тому, чье имя позже было канонизировано бесчеловечной Системой. Так будет ли методологически некорректным считать, что такого же мнения придерживался и Булгаков? Разумеется, методологически совершенно некорректно приписывать чужие мнения Булгакову, имевшему собственную голову на плечах. Тем более, что никакой плеяды русских интеллигентов, а тем более единодушного осуждения ими Горького, нам Барков не продемонстрировал. Ни Блок, ни Чуковский, ни Форш никогда не имели «резко негативного» отношения к Горькому. Естественно они не обожествляли его и понимали его недостатки, но за этими «деревьями» они, в отличие от Баркова, различали «лес». Масштаб личности Горького потрясал Чуковского – «Решил записывать о Горьком. Я был у него на прошлой неделе два дня подряд – часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни своей я не слыхал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот «музыкальный» всепонимающий талант»[1]. В целом Чуковский относился к Горькому очень положительно, о чем прежде всего свидетельствует запись о смерти Горького – «Как часто я не понимал А[лексея] М[аксимови]ча, сколько было в нем поэтичного, мягкого – как человек он был выше всех своих писаний»[2]. При этом в дневнике Чуковского действительно есть острые оценки Горького, но это частные оценки конкретных недостатков, а не личности, как таковой. Кроме того, сам Чуковский изначально признавал, неадекватность своих дневниковых оценок – «<…> я уже заранее стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, <…> этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего <…>»[3]. Впоследствии он на многие вещи пересмотрел свои взгляды, и признал, что не все его оценки того времени были объективны. Именно необъективность критических замечаний Чуковского вызвала в свое время неприязнь Блока к его творчеству: «Блок относился с неприязнью к литературной деятельности Чуковского: <…> Полемизируя <…> со статьями Чуковского <…> Блок утверждает: «Чуковский – пример беспочвенной критики». Еще более резко высказывается он о Чуковском в своих «Записных книжках» того времени. Через 46 лет <в 1963 г. – С.Ц.> в письме к исследователю биографии и творчества Блока – Д. Е. Максимову Чуковский вспоминал: «Что же касается нападок Блока на меня, то они были вполне закономерны: часто я писал отвратительно, вульгарно, безвкусно. И Блок, естественно, возмущался моими писаниями»[4]. К приведенным выше самокритичным воспоминаниям Чуковского примыкают и другие его записи разных лет: «Все мои письма (за исключением некот. писем к жене), все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, неискренни <…>»[5]. Из-за одного из писем Чуковского в 1922 г. даже состоялся крупный литературный скандал, когда А. Толстой, без ведома Чуковского, опубликовал на страницах «Литературного приложения» к газете «Накануне» (1922, 4 июня) его частное письмо, содержащее резкие критические отзывы о некоторых членах «Дома искусств»: «В письме Чуковского были такие строки о Замятине: «Замятин очень милый человек, очень, очень – но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший»»[6]. И это было написано о человеке, с которым Чуковский поддерживал дружеские отношения. Возвращаясь к Горькому, замечу, что О. Форш очень положительно относилась к нему и исключительно тепло отзывалась о нем в своих статьях[7]. Постоянно цитируемый Барковым Штейнберг пишет об отношениях Форш и Горького следующее – «Она умерла естественной смертью, в почете и славе. Не знаю, что случилось с Горьким. Чем кончилось единоборство Ольги Дмитриевны с ним? Однако перед нами пример явного союза между ними. Судя по письмам Горького, в особенности после ее пребывания на Капри, Алексей Максимович влюбился в уже стареющую Ольгу Дмитриевну. Но они разъехались. Решаюсь прибавить, однако, что и хорошо сделали»[8]. Вот только некоторые места из переписки Форш с Горьким: «Часто вспоминаю, как хорошо было мне у вас и с вами. <…> будьте здоровы и напишите мне хорошее письмо»[9]; «Радуюсь, милый Алексей Максимович, что увижу вас. Только были бы здоровы и не откладывали свой приезд»[10]; «Письма же молодых, прилагаемые к рукописям, очень интересны. Тут говорят «своим языком». Один юнош вам советует – «Крепитесь, А<лексей> М<аксимович>, и крепите нас!» Лучше не придумать, – ставлю точку»[11]; «Радуюсь, что скоро к нам приедете, и хочу непременно с вами повидаться, Алексей Максимович»[12]; «Прошу вас, Алексей Максимович, поделитесь со мной в этом вопросе <Форш просит совета для написания книги «Женщины нашего Союза» – С.Ц.> вашим опытом. <…> Жду от вас ответа, дорогой Алексей Максимович, шлю вам и всей семье вашей мой привет»[13]. Как мы уже отмечали выше, последний год жизни Блока был отмечен атрофией воли к жизни. Его угнетало общение со многими людьми, причем не только с Горьким, но даже и с собственной матерью(!): «Вечером мама с Книпович – очень тяжело»[14]; «Помоги мне, боже, быть лучше к маме»[15]. И тем не менее, 20 апреля 1921 г., прочтя начало дневника З. Н. Гиппиус в «Русской мысли» за январь-февраль 1921 г., Блок записывает следующую принципиальную оценку ее высказываний о Горьком: «Это очень интересно, блестяще, большей частью, я думаю, правдиво, но – своекорыстно. <…> Это – правда, но только часть <подчеркнуто Блоком – С.Ц.>. У Зинаиды Николаевны много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др.»[16]. Эта запись неопровержимо свидетельствует, что Блок был против карикатурного изображения облика Горького черными красками, как это делают Гиппиус и Барков. Существенно, что общественные пути Блока с Мережковским и Гиппиус разошлись намного раньше, когда его душевное состояние еще было в полном порядке. Вот характерная запись Блока, сделанная еще в период их хороших отношений – «Одичание – вот слово; а нашел его книжный, трусливый Мережковский»[17]. Нелицеприятно характеризует Мережковского и Чуковский: «Не могу забыть их собачьи голодные лица <…> им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, – и меня просто затошнило от отвращения <…> но какие жадные голодные лица»[18]; «Зин. Гиппиус написала мне милое письмо – приглашая придти – недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич – согнутый дугою, неискреннее участие во мне – и просьба: свести его с Лунач<арским>! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкепанидзе? Не могу ли я достать им бумагу – охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра» и т.д.? Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит, – Мережк<овские> первые будут клеветать на меня»[19]; «Вчера мы решили вместе идти к Горькому <…> В конце концов мы пошли. Он, к[а]к старая баба, забегал во все лавчонки, нет ли дешевого кофею, в конце концов сел у Летнего сада на какие-[то] доски – и заявил, что дальше не идет»[20]; «– Корней Ив., вы не знаете, что делать, если у теленка собачий хвост? – А что? – Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собМЃачина. Мы отказались, а Грж[ебин] купил. И т.д. Он ведет себя демонстративно-обывательски»[21]; «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал: – Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу». Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра», да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцара[па]ть еще тысяч сто»[22]. И наконец совершенно уничижительная характеристика: «Был Мережковский. Он в будущий четв. едет вон из Петербурга – помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдохновенно: «Все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы…» <…> Тут подошел Немирович-Данченко и спросил Мережк[овского] в упор, громко – Ну что? Когда вы едете? – Тот засуетился… – Тш… тш… Никуда я не еду! Разве можно при людях! – Немирович отошел прочь <…> Не дождавшись начала заседания – бойкий богоносец упорхнул»[23]. Не лучшим образом характеризует Мережковских Чуковский и в более поздних воспоминаниях: «Эти богоискатели всю жизнь продавались кому-ниб. Я помню их, как они лебезили перед Сытиным, перед Румановым. Помню скандал, когда Суворинцы в «Нов. Вр.» напечатали их заискивающие письма к Суворину»[24]. На фоне подобных характеристик Мережковского заметки Блока о Горьком выглядят куда как более привлекательно: «Чествование Горького во «Всемирной литературе». Хорошо»[25] <Подчеркнуто Блоком – С.Ц.>; «В 6 час. вечера Горький читает в Музее города воспоминания о Толстом. – Это было мудро и все вместе, с невольной паузой (от слез) – прекрасное, доброе, увлажняет ожесточенную душу»[26]; «Люба пошла в Городскую думу за бумагой о квартире. Горький нежно сказал мне, что все устроилось <…>»[27]. Оценивая отношения Блока к Горькому стоит учесть и мнение матери Блока «чья духовная близость с сыном общеизвестна»[28]. Как отмечает Д. Максимов, – «А. А. Кублицкая-Пиоттух, мать Блока, писала в одном из писем 1919 г.: «Часто видится <Блок> с Горьким. Отношения, кажется, хорошие». Тогда же она констатировала: «На днях чествовали Горького – пятидесятилетие его <…> Саша произнес ему приветствие прекрасное <…> Наконец-то они сговорились и в некоторой степени оценили друг друга»[29]. В августе 1919 г. Блок подарил Горькому – наряду с другими своими книгами – книгу статей «Россия и интеллигенция». Надпись Блока на этой книге заканчивается словами «С глубоким уважением и преданностью Ал. Блок VIII, 1919»[30]. Вздорность резких оценок Горького Буниным мы уже достаточно подробно разбирали ранее. Что касается супружеской пары Мережковский-Гиппиус, по характеристике современников отличавшейся высокомерием и нетерпимостью в своих оценках, то их личная частная оценка Горького имела так же мало значения для Булгакова, как и мнения Бунина и Вересаева. Тем более, что Мережковский и Гиппиус конфликтовали не персонально с Горьким, а со всеми писателями, принявшими советскую власть, в т.ч. и с Блоком. Так что же, Булгаков должен был изменить свое мнение и о Блоке?!! Тем более, что оценки Блока Зинаидой Гиппиус грешили сусальной лакировкой: «Великая радость в том, что я хочу прибавить. Мои глаза не видали Блока последних лет. Но есть два-три человека, глазам которых я верю, как своим собственным <…> <…> Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «Двенадцать» – возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы – уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но – говорили – он ничего не хотел принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его. Он буквально задыхался, – и задохнулся. Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, в свое время, они будут известны. Довольно сказать здесь, что страданьем великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России»[31]. Сия возвещенная Гиппиус благая весть душещипательна, возвышенна и до боли напоминает как высмеянные Булгаковым россказни Шервинского о явлении прослезившегося монарха, так и проповеди диакона Кураева о предсмертном прозрении Булгакова. Но если бы Гиппиус не поленилась коснуться реальных фактов, а не сомнительных сплетен, она бы могла заметить, что сообщенные ею сведения об отречении Блока не соответствуют действительности. Об этом неопровержимо свидетельствуют собственные записи Блока – 25 мая 1921 г. Блок пометил в своем дневнике: «Чуковский написал обо мне книгу и читал ряд лекций. Отсюда – наше сближение»[32]. «На страницах книги Чуковского мы читаем: «В «Двенадцати» высший расцвет его творчества, которое – с начала до конца – было как бы приготовлением к этой поэме <…> Я назвал его поэму «Двенадцать» гениальной. Блок для моего поколения – величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми». (Написано еще при жизни Блока)»[33]. Высокую оценку книге Чуковского дала и мать Блока – «<…> в целом написано необычайно талантливо и сказаны об Александре Александровиче поистине драгоценные вещи»[34]. Наконец, нет ни малейших оснований подозревать в недобросовестности самого Корнея Ивановича, записавшего 12 января 1921 г. в своем дневнике следующие слова Блока: «Был я третьего дня у Блока <…> «Мой Христос в конце «Двенадцати», конечно, наполовину литературный, – но в нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос – это было мне очень неприятно – И я нехотя, скрепя сердце – должен был поставить Христа»[35]. Эта запись Чуковского перекликается с более ранней записью 1919 г. – «Гумилев читал о «Двенадцати» – вздор <…> Блок слушал, как каменный <…> Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос»»[36]. Как известно, первоначально Блок отнесся к Чуковскому очень отрицательно, и именно книга и лекции Чуковского о Блоке послужили их тесному сближению в последние годы жизни поэта. Эту эволюцию их взаимоотношений Чуковский подчеркивал и годы спустя – «Надо писать о Блоке. Как нежно любил он меня в предсмертные годы, цеплялся за меня, посвящал мне стихи, писал необычайно горячие письма – и как он ненавидел меня в 1908-1910»[37]. По свидетельству Чуковского, Блок «до конца не изменил революции <…> Он разочаровался не в революции, но в людях: их не переделать никакой революцией»[38]. Таким образом, россказни Гиппиус об отречения Блока от своего творчества являются, попросту говоря, случаем обыкновенного вранья. Характерно, что о самой Гиппиус мнения современников были крайне противоречивы. Вот наблюдение В. Н. Муромцевой, жены И.А.Бунина: «Про Гиппиус говорили – зла, горда, умна, самомнительна. Кроме «умна», все неверно, то есть, может быть, и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать. Горда не более тех, кто знает себе цену. Самомнительна – нет, нисколько в дурном смысле. Но, конечно, она знает свой удельный вес…»[39]. А вот мнение К. Чуковского, высказанное по поводу воспоминаний З. Гиппиус «Дмитрий Мережковский» – «<…> холодное, безлюбое сердце <…> книга-кадавр З. Гиппиус»[40]. Подобные полярные оценки можно найти в мемуарной литературе о любом общественном или культурном деятеле, потому-то подобные Баркову недобросовестные исследователи всегда имеют полную возможность представить облик любого человека в нужном им свете, не задаваясь проблемой адекватного синтеза всего спектра представленных о нем мнений современников.Барков очень злобно проходится по Горькому и его недостаткам, но какое право у него право на такие высокомерные суждения? Разве он сам настолько безгрешен? Разве он, в отличие от Горького, не работал непосредственно в преступной по его же собственным словам системе ОГПУ-НКВД-КГБ? Можно ли поверить, что полковник КГБ Альфред Барков никогда не лицемерил в разговорах с сослуживцами, соседями и друзьями, а также в выступлениях на политинформациях и партсобраниях? В этом случае его бы никогда не взяли в Систему, да и к получению генеральского звания никогда бы не представили. Поэтому несомненно, что так же, как и Горький, Барков лгал окружающим. Но Горький, как подтверждают записи К. Чуковского, хотя бы каялся в этом. Откуда же такое праведное пафосное обличение Баркова? Да, Горький не безгрешен. Но кто без греха? И по крайней мере не Горький путем подлости и обмана пробился на литературный Олимп, а подлость и обман подлостью же и обманом привлекли его на свою сторону, как выдающегося общественного и художественного деятеля того времени. __________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 18.04.1919. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 109. [2] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись июнь 1936. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 142. [3] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 24.02.1901. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 9. [4] Александр Блок. Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 92: Кн. 2. – М.: Наука, 1981, с. 232. [5] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 03.02.1925. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 323. [6] Чуковская Е. Ц. Комментарии // Чуковский К. И. Дневник (1901-1929). – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 496. [7] Форш О. А. М. Горький и молодые писатели. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М.-Л.: Худож. лит., 1964, с. 577-581. [8] Штейнберг А. Друзья моих ранних лет. – Издательство "Синтаксис", Париж, 1991. – http://nivat.free.fr/livres/stein/04.htm [9] Письмо О. Форш к М. Горькому от 26.04.1929 // Литературное наследство. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. – М.: Изд. АН СССР, 1963, с. 607. [10] Письмо О. Форш к М. Горькому от 12.05.1930, там же, с. 608. [11] Письмо О. Форш к М. Горькому от 30.11.1930, там же, с. 610. [12] Письмо О. Форш к М. Горькому от 02.04.1933, там же, с. 612. [13] Письмо О. Форш к М. Горькому от 03.04.1936, там же, с. 613. [14] Блок А. Записные книжки 1901-1920, запись от 10.11.1919. – М.: Худож. лит., 1965, с. 480. [15] Там же, запись от 27.11.1920, с. 508. [16] Блок А. А. Дневник, запись от 20.04.1921. – М.: Сов. Россия, 1989, с. 344. [17] Блок А. Записные книжки 1901-1920, запись от 10.11.1915. – М.: Худож. лит., 1965, с. 277. [18] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 21.02.1917. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 74. [19] Там же, запись от 15.10.1918, с. 93. [20] Там же, запись от 22(24?).02.1919, с. 100. [21] Там же, запись от 05.03.1919, с. 101. [22] Там же, запись от 09.07.1919, с. 114. [23] Там же, запись от 11.12.1919, с. 134-135. [24] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись от 21.08.1946. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 172. [25] Блок А. Записные книжки 1901-1920, запись от 30.03.1919. – М.: Худож. лит., 1965, с. 454. [26] Там же, запись от 19.07.1919, с. 467. [27] Там же, запись от 25.07.1919, с. 468. [28] Чуковская Е. Ц. Блок в архиве Чуковского // Александр Блок. Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 92: Кн. 4. – М.: Наука, 1981, с. 316. [29] Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л.: Сов. Писатель, 1975, с. 519 [30] Крюкова А. М. Блок и Горький // Александр Блок. Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 92: Кн. 4. – М.: Наука, 1981, с. 237. [31] Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. – Тбилиси: Мерани, 1991, с. 36. [32] Блок А. А. Дневник. – М.: Сов. Россия, 1989, с. 347. [33] Александр Блок. Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 92: Кн. 2. – М.: Наука, 1981, с. 233. [34] Там же, с. 233. [35] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 12.01.1921. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 155-156. [36] Там же, запись от 05.07.1919, с. 113-114. [37] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись от 26.12.1956. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 244. [38] Чуковский К. И. Александр Блок как человек и поэт. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 404. [39] Орлов В. Зинаида Гиппиус: Поэт, показавший себя своенравно и дерзко. – http://www.litwomen.ru/autogr20.html [40] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись от 20.01.1961. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 299. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:15 28.11.2008, 12:15
Сообщение
#387
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Глава XX. «Неужели, неужели?..»
«- Ах, в уме ли вы, газели? <…> Но не слушали газели И по-прежнему галдели: - Неужели В самом деле Все качели Погорели? Что за глупые газели!» К. Чуковский[1] Данная глава в основном состоит из завуалированных намеков Баркова на возможность то связи Горького с охранкой, то с немцами, то еще с кем-нибудь. Открыто обвинить Горького наш доморощенный папарацци не осмелился, да и фактов таких у него нет, поэтому избрал тактику «создания удушливой атмосферы», ибо после сказанного осадок остается всегда, даже если все обвинения опровергнуты. Цитата IV.XX.1. Придет день, я восстану открыто на него. Да не только, как на человека, но и как на писателя. Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул во лжи, в фальши. И. Бунин Приведенные выше слова И.А. Бунина процитированы Верой Николаевной в ее дневнике. Далее она продолжает от своего имени: "Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри […] Ян сделал Горькому такую надпись в своей книге: "Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас" […] Неужели и тогда Ян чувствовал, что их пути могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького, но которая просуществовала не очень долго, так как все перессорились, да и большинство учеников, кажется, были провокаторами. И мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели…" Этими словами "Неужели, неужели…" с авторским отточием Веры Николаевны обрывается мучивший ее вопрос. В общем, для дневника, который она вела в Одессе, такой обрыв фразы не является характерным. Должны ли были эти слова развить предшествовавшую им мысль о том, что большинство из обучавшихся на вилле Горького социал-демократов были провокаторами охранки? Если так, то тогда переход "Мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович" достаточно красноречив. В общем, подозрения эти, если они действительно зародились у Буниных, отнюдь не парадоксальны. Там, на вилле "Спинола", действительно была особа, причем весьма близкая к Горькому, которая ссорила между собой представителей различных направлений российской социал-демократии. О ней и ее роли речь ниже – в разделе, посвященном прототипу образа Маргариты. Здесь же, в словах Веры Николаевны можно усмотреть наличие подозрений в отношении самого Горького. Из приведенных записей Буниной отчетливо видно, что Веру Николаевну волнует большевизм, а не провокаторство в рядах большевиков, о котором она говорит мимоходом и с оттенком сомнения. Собственно из широко известных слушателей социал-демократической школы М. Горького на Капри провокатором оказался один Алексинский. Видимо Вера Николаевна перепутала провокаторство с фракционностью. Ведь каприйская школа была организована весной 1909 г. после Всероссийской партийной конференции, осудившей отзовистов и ультиматистов, которые в ответ организовали школу для рабочих на острове Капри и в декабре 1909 г. информировали ЦК о создании новой фракционной группы «Вперед». Понятно, что большевики не скупились на откровенные ругательства и обвинения в провокаторстве по адресу каприйской школы. Что касается Горького, то в словах Веры Николаевны можно усмотреть только сожаление о разрыве отношений Бунина с ним. Вера Николаевна по ее собственным словам любила Горького, его отрицательный облик ей и теперь все еще не совсем ясен и очевиден, и ей не верится, что Бунин еще на Капри предчувствовал, что их жизненные пути с Горьким могут разойтись. – «Неужели и тогда Ян чувствовал, что их пути могут разойтись <…> мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели…»[1] Неужели все, что возмущает их теперь в Горьком было в нем уже тогда? Ведь в тот период их близких отношений Вера Николаевна делала совсем другие записи в своем дневнике – «Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же г л а в н о е они любили по-настоящему»[2]. Только окончательно приняв точку зрения Бунина и уверившись в своем новом отношении к Горькому, Вера Николаевна сделала следующую грустную запись в своем дневнике – «Мне жаль, что я его знала. Тяжело выкидывать из сердца людей, особенно тех, с которыми пережито много истинно прекрасных дней, которые бывают редко в жизни»[3]. _________________________________________________________ [1] Устами Буниных: В 3 т. Т. 1. – Frankfurt/Main: Посев, 1977, с. 191. [2] Там же, с. 80. [3] Там же, с. 201. Сообщение отредактировал tsa - 13.2.2009, 19:31 -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:17 28.11.2008, 12:17
Сообщение
#388
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.2. О том, что такая направленность мыслей о Горьком не является чем-то необычным для Буниных и их окружения, свидетельствует сделанная через полгода (23 февраля/18 марта 1919 года) запись в этом же дневнике: "Тут перешли к большевикам, а от них к Горькому. Куликовские говорили, что когда Бурцев написал, что "откроет им, кто был на службе у немцев, то все содрогнутся", многие подумали о Горьком". Примечательно: "многие" подумали. То есть, уже не Бунины, как это предполагается в отношении содержания предыдущей выдержки, а именно "многие". Причем Бурцев явно имел в виду не Ленина, связь которого с германскими властями ни у кого в то время сомнений уже не вызывала. Чтобы уяснить всю серьезность утверждения Веры Николаевны, следует учитывать неординарность личности В.Л. Бурцева, знаменитого своей деятельностью по выявлению провокаторов охранки ("ассенизатор партий" – так его называли). Разоблачение таких крупнейших провокаторов, как Азеф и Малиновский – его личная заслуга. В 1928 году, когда сам Бурцев в это время был уже в эмиграции, в СССР даже была издана его книга "В погоне за провокаторами" (переиздана в 1989 году издательством "Современник"). В 1917 году Бурцев выступил против антивоенной, "пораженческой" позиции Горького, обвинив писателя в измене родине. С точки зрения оценки позиции Булгакова в данном эпизоде характерным является то, что стоило Бурцеву только намекнуть, как тут же "многие" подумали о Горьком. Значит, почва для этого существовала. Поэтому фраза "Неужели, неужели…" с достаточной степенью вероятности может быть истолкована в изложенной выше интерпретации. Примечательно, что Бунина здесь ничего не пишет о собственных подозрениях, как это пытается навязать Барков. Кроме того в предыдущей выдержке не идет речь о «службе у немцев». И, наконец, агентство ОБС (одна бабушка сказала) является одним из древнейших на свете, но достоверность его слухой крайне невелика. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:20 28.11.2008, 12:20
Сообщение
#389
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.3. "Многие подумали"… Конечно, сделанные в далекой Одессе замечания Веры Николаевны в своем личном дневнике могут кому-то показаться недостаточно веским основанием для использования в данных построениях. Согласен. Но все дело в том, что обвинение Бурцева точно так же было воспринято и самим Горьким. Более того, комментарий Горького на статью В.Л. Бурцева "Или мы, или немцы и те, кто с ними", опубликованную 7 июля 1917 года в "Русской воле" и послужившую началом кампании обвинений в печати Горького в измене родине, вошел в его эпистолярий. В письме к своей жене Е.П. Пешковой он писал: "Дурак Бурцев опубликовал в газетах, что скоро он назовет провокатора и шпиона, имя которого "изумит весь мир". Публика начала догадываться и догадалась: это Горький". Подозрения в отношении Горького стали настолько значительным фактом того времени, что впоследствии даже каноническая "Летопись жизни и творчества М. Горького" поместила комментарий по этому поводу. Отсюда следует, что к отступничеству и сотрудничеству с инфернальными силами, как оно изображено в романе Булгакова, склонность у Горького существовала изначально. И поскольку уж "многие подумали", то и Булгаков мог об этом знать. Никакого отступничества Мастер не проявил, поскольку ни с какими инфернальными или репрессивными органами не сотрудничал. Помощь Воланда он принял, но и здесь говорить о сотрудничестве невозможно, так как сотрудничают в каком-либо деле, а дела-то здесь и нет. Напыщенное надувание щек Барковым по поводу того, что «каноническая «Летопись жизни и творчества М. Горького» поместила комментарий» совершенно необоснованно. Летопись содержит все известные факты, связанные с жизнью Горького, поэтому ничего отсюда не следует. Ну а Булгакова это и вовсе не волновало. Разумеется, он не мог не знать об обвинениях Бурцева, но на его мнение о Горьком это никак не повлияло, напомню строки его дневника – «Несимпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе»[1]. Что касается собственно обвинений Бурцева, то что еще мог этот профессиональный мракоборец с пожирателями смерти, то есть с провокаторами, предположить, когда большевики заняли позицию, призывающую к поражению собственного правительства в войне с Германией? По-своему он был прав, но надо же понимать, что главным его обвинительным материалом против Горького была всего лишь политическая близость Горького к большевизму. Все его обвинения были смехотворны и выеденного яйца не стоили.Замечу, что упомянутая Барковым летопись никаких комментариев не содержит, только скупые факты. В противном случае ее размер бы превысил все мыслимые пределы в десятки раз. В частности клеветнические измышления Бурцева и связанные с этим события, так или иначе, упомянуты в ней неоднократно на страницах с 43 по 47, включительно. ______________________________________________________________ [1] Булгаков М. А. Дневник. Письма. 1914-1940. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 62. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:30 28.11.2008, 12:30
Сообщение
#390
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.4. Это ощущалось интуитивно не только близкими к Горькому литераторами. Характерным в этом плане является отношение к "пролетарскому писателю" со стороны милиционеров, о чем повествует еще одна дневниковая запись К.И. Чуковского – от 30 марта 1920 года: "Горький, по моему приглашению, читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров) и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно, держит себя в высшей степени демократично, а его все боятся (выделено К.И. Чуковским – A.Б.), шарахаются от него, – особенно в Милиции. – Не простой он человек! – объясняют они". Причина, видимо, кроется вот в чем. Как это ни покажется парадоксальным на фоне канонизированного мнения о якобы пролетарском происхождении Горького, оно таковым фактически не являлось. Понимаю, что изрядно всем поднадоевший за годы коммунистического правления пресловутый "классовый подход" может справедливо вызвать аллергию. Но вряд ли стоит выплескивать с грязным бельем и ребенка, тем более, что именно от такого метода анализа истоков одиозных качеств Горького не отказывался даже И. Бунин. Утверждение Баркова, что милиционеры чувствовали исходящую от Горького инфернальность находится за гранью разума. Да и откуда могла развиться такая чувствительность в простых милиционерах – вчерашних крестьянах и рабочих – если ни Чехов, ни Короленко, ни Вересаев ничего в Горьком не чувствовали? Точно так же ничего не чувствовал и Бунин, иначе бы не клялся постоянно Горькому в вечной любви. Думаю, что точно так же милиционеры в то время «шарахались» и от прочих деятелей партии и правительства. Цитата IV.XX.5. Резко негативное отношение Горького к крестьянству общеизвестно; его характеризует хотя бы такое его высказывание: "Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таким скоро […]. Героев мало, часто они зоологичны, но они есть, есть и в крестьянстве – рождающем своих Бонапартов. Бонапарт для данной волости". С мужиком-крестьянином все ясно. Но вот отношение "пролетарского писателя" к самим пролетариям – его убедительно характеризует наблюдение А.А. Блока в изложении К.И. Чуковского: "Блок третьего дня рассказывал мне: "Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький – высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!". О том, что звучащие парадоксально (по сравнению с вдалбливавшимися нам десятилетиями чертами канонизированного образа) в устах Горького слова не были высказаны под влиянием момента, а характеризуют его действительное отношение к рабочему классу, свидетельствует вышедшая незадолго до этого из под его собственного пера максима: "Нет, пролетариат не великодушен и не справедлив, […] а ведь революция должна была утвердить в стране возможную справедливость". Не менее парадоксальные суждения, высказанные самим Блоком, сохранены в дневниках Чуковского: «Однажды, сидя со мною в трамвае, он сказал: «Я закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян <…>»». По словам Чуковского «Большинство людей для него было – чернь, которая только утомляла его своей пошлостью»[1]. Напомню, что отрицательно относился к русскому крестьянству и Варлам Шаламов, писавший, что самые его омерзительные воспоминания в 1918 году связаны с крестьянством и его стяжательской душой (см. тезис III.XIII.6). Но Блок остается Блоком, Горький – Горьким, а Шаламов – Шаламовым, ибо писателя нужно судить не по высказываниям в быту, а по его творчеству. _______________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Александр Блок как человек и поэт. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 396. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:33 28.11.2008, 12:33
Сообщение
#391
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.6. Остается последняя надежда – на тезис о Горьком-интеллигенте. Уж здесь-то, казалось бы, сомнений быть не может. Однако, увы, и в этом вопросе не все так гладко. Вот озадачивающее наблюдение В.В. Вересаева: "Горький приехал в Петербург, помнится, осенью 1900 года и пробыл, кажется, несколько месяцев. Тут что-то очень странное, чего я до сих пор не могу понять. И сам Петербург, и люди в нем произвели на Горького самое отрицательное впечатление, и отражение этого впечатления во всех опубликованных тогдашних его письмах, например, к Чехову. В воспоминаниях о Короленко он называет Петербург того времени "городом определенных линий и неопределенных людей". Мне это странно, потому что – ведь речь идет об интеллигенции – как раз в Петербурге в то время интеллигенция, и, в частности, писательская, была наиболее определенная и привлекательная". То, что Вересаев был озадачен, вполне понятно, – восприятие Горьким Петербурга оказалось резко отличным от его собственного. Но сколько людей, столько и мнений. Кого-то озадачивает позиция Горького, а кого-то Вересаева. Кстати ни Чехов, ни Короленко не озадачились впечатлениями Горького. А уж лучших и достойнейших интеллигентов в России той поры было не сыскать. А разгадку отношения Горького к питерской интеллигенции тех лет можно найти у М. Ф. Андреевой: «Шел 1904 год <…> когда «Дачников» поставили у Комиссаржевской, было страшно интересно <…> Весь театр был потрясен, публика бешено аплодировала и вызывала автора. А писательская братия, жившая тогда в Петербурге, в особенности Гиппиус, Философов и Мережковский, свистели ему»[1]. Думаю, что в 1904 году свистела Горькому все та же писательская братия, что неприязненно встретила его в первый приезд в Петербург в 1900 году. ___________________________________________________________ [1] Андреева М. Ф. О Горьком // Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. – М.: Искусство, 1968, с. 407. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:38 28.11.2008, 12:38
Сообщение
#392
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.7. Не может не привлечь к себе внимания и мнение И. Бунина: "Чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим […] Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? […] Все повторяют: "босяк, поднялся со дна моря народного…" Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: "Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 68-м году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы; мать – дочь богатого купца-красильщика…". Дальнейшее – никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю". Мнения Бунина об окружающих его людях не могут служить убедительным аргументом, поскольку по его собственным признаниям они всегда были неискренни – «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал – в силу разных обстоятельств»; «<…> я писал их всегда как попало, слишком небрежно и порою не совсем кое-где искренне (в силу тех или иных обстоятельств)…»[1] Именно поэтому Бунин завещал уничтожить все его письма, пытаясь зафиксировать в памяти потомков только поздние оценки им своих знакомых и друзей. О неискренности Бунина пишет и К. Чуковский – «Хуже всего было то, что он должен был скрывать свои высокомерные чувства, должен был постоянно якшаться с теми, кого презирал, водить с ними многолетнюю дружбу, писать им теплые участливые письма (о которых впоследствии и сам заявил, что они часто бывали неискренними, то есть скрывали его неприязненное отношение к тем, кто считали его своим другом)»[2]. Как бы ни сложилась жизнь Бунина, но право все же пошло, клясться человеку в любви, ходить в подмаксимках, а потом укусить, как змея. Я не подвергаю сомнению ненависть позднего Бунина к Горькому, но обращаю внимание читателя на то, что в первую очередь она была связана не с личностью самого Горького и его человеческими качествами, а именно с необходимостью для Бунина долгого притворства перед Горьким, «в силу разных обстоятельств». За это унижение и мстил Бунин Горькому в своих поздних воспоминаниях. Склонность Бунина к передаче и порождению всевозможных слухов в отношении людей, к которым он испытывал неприязнь, хорошо известна и я не буду подробно останавливаться на ней. Замечу только, что Бунин по праву может считаться духовным отцом Баркова в плане распространения всевозможных сплетен и слухов, поскольку в данном случае под видом цитаты из якобы словаря Брокгауза-Ефрона он закавычил свои собственные слова. В словаре же написано следующее: «Вышел из вполне буржуазной среды. Рано умерший отец его из обойщиков выбился в управляющие большой пароходной конторы; дед со стороны матери, Каширин, был богатый красильщик. В 7 лет Горький остался круглым сиротой, а дед начал разоряться, и для заброшенного, почти не знавшего ласки мальчика наступила та эпопея скитаний и тяжелых невзгод, которая побудила его избрать символический псевдоним Горького <…> с тех пор начались для него борьба за существование и постоянная смена занятий и профессий»[3]. Как видим, из словаря Брокгауза ясно следует, что Горький был связан с мелкобуржуазной средой только фактом своего рождения, но не воспитания. С раннего его детства эта среда отвергла его и он попал на дно. Так что вполне справедливо утверждение, что Горький – босяк, поднявшийся со дна народного. Бунин же сознательно так ловко сконструировал свою фразу, что у читателя невольно создается впечатление, что, по крайней мере, детство свое Горький провел в полном довольстве и сытости. Что касается упомянутой в словаре фантастической по тем временам карьеры из обойщиков якобы в управляющие, то лучше довериться более достоверным сведениям, приведенным в биографии отца Горького, составленной одним из авторитетнейших исследователей биографии и творчества Горького – Павлом Басинским: «<…> Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару. Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) матери невесты Акулины Ивановны Кашириной. Как говорили тогда в народе, женились «самокруткой», Василий Каширин был в ярости. «Детей» он не проклял, но и жить их к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой… Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой Божье проклятие для этой семьи. И как всегда бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью. Максим Пешков оказался не только талантливым мастером‑обойщиком, но и натурой артистической, что, впрочем, было едва ли не обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготовляли мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепаховым рогом, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. Они изготовляли стильную мебель. Кроме того, Максим Савватиевич отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал уважаемым человеком. Перед тем, как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра Второго и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим Савватиевич Пешков успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы. В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними и весь каширинский род. В июле 1871 года (по некоторым данным, в 1872 году) маленький Алеша заболел холерой и заразил ею отца. Мальчик выздоровел, а отец, возившийся с ним, умер, не дождавшись рождения своего второго сына, названного в его честь Максимом. Максима‑старшего похоронили в Астрахани. Младший умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле… По прибытии Варвары домой к отцу, ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она имела право претендовать. Дед Каширин был вынужден разделиться с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных»[4]. Думаю не нужно пояснять принципиальную разницу между конторщиком и «управляющим большой пароходной конторы», да и описанная семейная «среда» Горького буржуазностью и не пахнет. _______________________________________________________________ [1] Бунин И. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. – М.: Худож. лит., 1967, с. 480, 483. [2] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись 06.04.1968 (больничные записки). – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 416-417. [3] Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии. В 12 т. Т. 4: Герарди-Дюма. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993, с. 269-270. [4] Басинский П. Страсти по Максиму. – М.: ЗАО «Роман-Газета», 2007. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:40 28.11.2008, 12:40
Сообщение
#393
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.8. И еще: "В 92-м году Горький напечатал в газете "Кавказ" свой первый рассказ "Макар Чудра", который начинается на редкость пошло […] Горький … писал фельетоны (в "Самарской газете"), подписываясь так: "Иегудил Хламида". Как видим, бунинское "на редкость пошло" не только по смыслу, но и по лексике перекликается с высказыванием Мережковского о том, что Горький – "высшая и страшная пошлость". Особое значение в приведенном свидетельстве имеет факт использования Горьким весьма символического псевдонима "Иегудил Хламида", объединяющим два антагонистических понятия: "Иисус Христос" – через инициалы, и "Иуда Искариот" – через имя. Здесь вряд ли есть смысл особо останавливаться на переходящей в кощунство пошлости – это и так ясно. Я лишь прошу читателя запомнить этот факт, и не только потому, что в нем заключается суть взглядов Горького по вопросам универсализма, о чем речь впереди; но потому, в первую очередь, что это – стержневой момент характеристики булгаковского образа … Воланда! Поскольку Бунину были прекрасно известны слова «бойкого богоносца», то нет ничего удивительного, что он использовал ту же лексику. Что касается аналогий через инициалы и через имя, то не могу не привести в связи с этим забавный пример «аналогии» из моей личной жизни. Как-то на Пасху я проходил мимо одного храма и вдруг увидел в окне горящие желтым пламенем буквы «Х.В.» Хотите верьте, хотите нет, но в моей душе непроизвольно и неосознанно всколыхнулся отчаянный вопль: «За что, Господи?» И только спустя какие-то мгновения пришло понимание, что эти буквы означают совершенно невинную фразу «Христос воскрес». -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:49 28.11.2008, 12:49
Сообщение
#394
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.9. Сравнивая Бунина и Горького, П. Пильский писал: "Духовный облик Бунина, сам по себе, должен быть не только чуждым Горькому, но и глубоко ему враждебным в своих наследственных чертах, в своем мировосприятии, во всем своем внутреннем строе, в своей непримиримости, как непримиримы ложный пафос и спокойная мудрость, миражи и ясность, пошлость и красота, гордость и расчет, дальновидность и ослепление, знание и верхоглядство, ум и резонерство. Ближе, родственней, дороже и ценней для Бунина всегда был Чехов и, в противоположность горьковской взвинченности тех лет, этим декламаторским пристрастиям, нагроможденности, превыспренности, навинченному колочению в грудь до звона в ушах, стиль Чехова и Бунина приобретали и обрели прозрачную просветленность. Вся эти нелепые построения легко опровергаются многократно ранее цитированной мною перепиской Горького и Бунина, дружбой Горького и Чехова, и советом Горького молодым писателям учиться мастерству к Бунина. Цитата IV.XX.10. Недаром Чехов писал Горькому: " – У Вас нет сдержанности. Вы, как зритель в театре, который выражает свои восторги так несдержанно, что мешает слушать себе и другим. Это не размах, не широта кисти, а именно несдержанность". Еще более определенно эти признаки некультурности, эту литературную наивность Чехов отмечает дальше: " – В изображениях интеллигентных людей чувствуется напряжение, как будто осторожность; это не потому, что Вы мало наблюдали интеллигентных людей – Вы знаете их, но точно не знаете, с какой стороны подойти к ним". (Обратите внимание, читатель, на интересный момент: Чехов не причисляет Горького к интеллигентам, а дистанцирует его от них – "наблюдали", "Вы знаете их"… – А.Б.). Это очень метко. Здесь – тайна и основная причина размирения между Горьким и Буниным. Ни о какой классовой розни не может быть и речи. Да и что же это за пролетарий такой – Горький – "богат и знатен Кочубей" с одной стороны, а с другой: давно ли марксизм и ленинизм стали выдавать босякам почетные пролетарские паспорта, вид на рабочее жительство? Нет, корень сидит в другом – в культуре, ее органической отчужденности от некультурности, полуинтеллигентности, литературного демимондентства, мещанской лукавки, нескромной навязчивости, хитроумия, а не ума". Корень души Горького вполне точно описан Чуковским и нет никакой нужды так напрягаться в поисках новых «интересных» формулировок: «Нет, кажется, второго такого писателя, у которого творчество было бы в таком разладе с сознанием. В каждой его книге – две души, одна подлинная, другая придуманная». «Он не барин, не интеллигент, не рабочий, не буржуй, не крестьянин <…> Он на грани двух миров, из которых один уже начал разваливаться, а другой еще не успел сложиться. Оттого-то у него две души, оттого-то между его инстинктами и его сознанием такой вопиющий разлад. Все его инстинкты, бессознательные тяготения, симпатии, вкусы принадлежат одному миру, всё его сознание – другому. Оттого-то Горький-публицист так не похож на Горького-художника»[1]. Тем не менее, как отметил Чуковский, сознание Горького тянулось к интеллигенции. Об этом же пишет и Шаляпин: «Помню, как Горький высоко понимал призвание интеллигента <…> Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось: – Это человек, который во всякую минуту жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на защиту правды, не щадя даже собственной жизни. Не ручаюсь за точность слов, но смысл передаю точно. Я верил в искренность Горького и чувствовал, что это не пустая фраза. Не раз я видел Горького впереди всех с открытой грудью»[2]. Что касается приведенного письма Чехова Горькому, то это обычное для Чехова дружеское поучение – «воспитывать всех окружающих было его излюбленным делом»[3] – высказанное не заглазно, а открыто. То есть это мнение ни в коей степени не «размиряло» Чехова с Горьким и даже, быть может, наоборот было причиной их взаимного притяжения. Если мы проследим эволюцию формирования отношения Чехова к Горькому, то обнаружим, что оно было неизменно благожелательно. Так еще в начале 1900 г. на вопрос своего корреспондента А. Б. Тараховского – «Читали ли Вы в «Нижегородском листке» статью о Вас Горького? Как красиво он пишет и как тонко наблюдает»[4], – Чехов ответил – «Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек»[5]. В письме к О. Л. Книппер осенью 1900 г. Чехов пишет о Горьком – «Этот человек мне весьма и весьма симпатичен, и то, что о нем пишут в газетах, даже чепуха разная, меня радует и интересует»[6]. Самому Горькому в марте 1901 г. Чехов пишет – «Милый Алексей Максимович, где Вы? Давно уже жду от Вас письма, по возможности длинного, и никак не дождусь. Ваши «Трое» читаю с большим удовольствием – имейте сие в виду – с громадным удовольствием»[7]. Переписка Чехова за 1903-1904 гг. убедительно свидетельствует, что к своему «милому другу Максиму Горькому»[8] он сохранял неизменное дружеское расположение до самых последних дней своей жизни: «<…> Максим Горький человек добрейший, мягкий, деликатнейший»[9]; «Горькому после успеха придется выдержать или выдерживать в течение долгого времени напор ненависти и зависти. Он начал с успехов – это не прощается на сем свете»[10]; «Пьесы его «На дне» я не видел и плохо знаком с ней, но уж таких рассказов, как например, «Мой спутник» или «Челкаш», для меня достаточно, чтобы считать его писателем далеко не маленьким <…> заслуга Горького не в том, что он понравился, а в том, что он первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве <…> По-моему, будет время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет забыт даже через тысячу лет»[11]; «Если Алексей Максимович теперь в Петербурге или около и Вы видаетесь с ним, то передайте ему мой поклон и пожелание всего хорошего. Нельзя ли мне получить хотя на одни сутки его новую пьесу? Я прочел бы и тотчас же возвратил бы, не задерживая ни на одну минуту»[12]; «<…> прошу поклониться Алексею Максимовичу, если Вы его увидите»[13]. __________________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 368, 382. [2] Шаляпин Ф. И. Маска и душа // Шаляпин Ф. И. Воспоминания. – М.: Локид, 2000, с. 453. [3] Чуковский К. И. Чехов. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 226, 261. [4] Чехов А. П. Полн. Собр. соч.:и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 9. Примечания. – М.: Наука, 1980, с. 301. [5] Письмо А. П. Чехова Тараховскому от 15.02.1900 // Чехов А. П. Полн. Собр. соч.:и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 9. – М.: Наука, 1980, с. 55. [6] Письмо А. П. Чехова к О. Л. Книппер от 15.09.1900 // Там же, с. 117. [7] Письмо А. П. Чехова к А. М. Пешкову (М. Горькому) от 18.03.1901 // Там же, с. 231. [8] Надпись А. П. Чехова на фотографии от 04.01.1902 // Чехов А. П. Полн. Собр. соч.:и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 12. – М.: Наука, 1983, с. 203. [9] Письмо А. П. Чехова к Е. П. Гославскому от 10.01.1903 // Чехов А. П. Полн. Собр. соч.:и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 11. – М.: Наука, 1982, с. 119. [10] Письмо А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой от 14.01.1903 // Там же, с. 124. [11] Письмо А. П. Чехова к А. И. Сумбатову (Южину) от 26.02.1903 // Там же, с. 164. [12] Письмо А. П. Чехова к К. П. Пятницкому от 18.05.1904 // Чехов А. П. Полн. Собр. соч.:и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 12. – М.: Наука, 1983, с. 101. [13] Письмо А. П. Чехова к К. П. Пятницкому от 31.05.1904 // Там же, с. 109. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 12:55 28.11.2008, 12:55
Сообщение
#395
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.11. Небезынтересным будет знать и мнение по этому вопросу К.И. Чуковского: "Мне почему-то показалось, что Горький – малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее […] Горький именно поэтому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен" Надеюсь читателю будет так же небезынтересно узнать, что сия запись всего лишь результат душевного смятения Чуковского по поводу неудавшегося вечера памяти Леонида Андреева. В такие минуты чего только не напишешь: «Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился – и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, что Горький – малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. Сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию, – но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, <…> – Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен»[1]. То есть ясно сказано, что все это показалось ему в минуту отчаяния, а не является не то что выводом, но даже какой-то выношенной мыслью. Поэтому не стоит удивляться, что всего через несколько месяцев в дневнике появляется запись совсем другого рода – «Сегодня впервые я видел прекрасного Горького – и упивался зрелищем <…>»[2] ____________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 09.11.1919. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 122. [2] Там же, запись от 19.04.1920, с. 144. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 13:02 28.11.2008, 13:02
Сообщение
#396
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.12. Подтверждением этой мысли является и записанный Корнеем Ивановичем со слов А.Н. Тихонова эпизод, в котором фигурирует еще одна чеховская оценка: "Был в Доме Искусств на заседании […] Домой я шел с Тихоновым, и он сказал мне интересную вещь о Чехове: оказывается, Тихонов студентом очень увлекался Горьким, а Чехов говорил ему: – Можно ли такую дрянь хвалить, как "Песня о Соколе". Вот погодите, станете старше, самим вам станет стыдно. – И мне действительно стыдно, – говорит Тихонов". Приведенная цитата подтверждает исключительно тот факт, что Чехов невысоко ценил «Песню о Соколе», и что Тихонов, повзрослев, согласился с его оценкой. Ну и что? Сам Горький так же крайне невысоко ценил эту свою песню. Напомню его слова на чествовании во Всемирной Литературе – «Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот, что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять (т.е. что теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола»). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь… ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет…»[1]. Берберова это понимала – «Он любил рассказывать на прогулках про Чехова, про Андреева, про все то, что быстро уходило в прошлое. <…> Но он не любил говорить о старых своих книгах – в этом он ничем не отличался от большинства авторов – и не любил, когда прежние его вещи вспоминали и хвалили. Упомянуть при нем о «Песне о буревестнике» было бы совершенно бестактно»[2]. А вот Барков понять это не захотел, ему это было не нужно, поскольку в его примитивную схему подобные вещи не укладывались. Что касается отношения Чехова к Горькому, то «Песней о Соколе» оно не исчерпывалось: «Однажды Горький прочитал ему свою гордую песню о человеке-строителе, жаждущем преобразить всю планету неустанным земледелием и строительством <…> Песня эта не могла не понравиться Чехову, так как она вполне выражала его собственную веру в спасительность нашего тысячелетнего садоводчества и зодчества»[3]. _____________________________________________________ [1] Там же, запись от 30.03.1919, с. 107-108. [2] Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. – М.: Согласие, 1996, с. 223. [3] Чуковский К. И. Чехов. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 224. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 13:04 28.11.2008, 13:04
Сообщение
#397
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.13. Постижению психологического портрета Горького могут служить и такие наблюдения В. Ходасевича: "Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный "идеальный", отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какой он ее создал своим воображением, – мысль о возможности утраты этого образа […] была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому нужно было другое. Он в конце концов продался – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни […] Какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него […] не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел […] Он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью". Данное свое мнение Ходасевич высказал по материалам советской печати, так как к тому времени уже много лет не видел Горького. Поэтому более разумно прислушаться к мнению людей, продолжавших общаться с Горьким в те годы, о которых пишет Ходасевич. Одним из таких людей является Корней Чуковский, который сохранил теплые чувства к Горькому до конца своей жизни: «Я прочитал в «Последн. Известиях» преглупый фельетон Сургучева «М. Горький». В фельетоне сказано, что Горький привык сидеть на бриллиантовых тронах и вообще нетерпим к чужому мнению, <…>»[1]; «<…> и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин – все в одном лице – даже страшно»[2] <запись об Ахматовой – С.Ц>; «Откуда эта чудовищная злоба у некоторых писателей к Толстому? Горькому?»[3]; «Только что узнал, что умер Горький. Ночь. Хожу по саду и плачу <…> Как часто я не понимал А[лексея] М[аксимови]ча, сколько было в нем поэтичного, мягкого – как человек он был выше всех своих писаний»[4]. ____________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Дневник (1901-1929), запись от 08.06.1921. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 175. [2] Там же, запись от 14.02.1922, с. 189. [3] Чуковский К. И. Дневник (1930-1969), запись от 24.12.1934. – 2-е изд., испр. – М.: Совр. писатель, 1997, с. 112. [4] Там же, запись июнь 1936, с. 142. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 28.11.2008, 13:07 28.11.2008, 13:07
Сообщение
#398
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XX.14. Сказано о Горьком, а читаешь – как будто бы о булгаковском Мастере… Мастер никогда и никому не прислуживал. Ни малейшей параллели с его жизнью здесь не просматривается. Ни рабства ни лести власть имущие от него не дождались, подобной участи он предпочел добровольное заточение в сумасшедшем доме. Впрочем, когда мозги читающего вывернуты наизнанку с криптологического бодуна, в любом тексте можно обнаружить что угодно. Как известно у христианской церкви бытует объяснение любовной лирики Песни Песней царя Соломона «иносказательным изображением отношения Иеговы к Его народу; это мистическое толкование перешло в христианскую Церковь и удержалось до нашего времени, опираясь на «великую тайну» любви Христовой к Церкви… В отношении пастушки к царю верующие видят переживания сердца, рвущагося к небесному Жениху и то теряющаго Его, то вновь находящаго»[1]. Мне же кажется, что эти песни не что иное, как наглядное толкование теории Дарвина о далеком предке Баркова, в незапамятные времена слезшем с пальмы то ли по велению Всевышнего, то ли по собственному разумению: 8 Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. 9 Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от Яблоков (Песня Песней 7). ________________________________________________ [1] Библейский спутник. – Приложение к Библии [Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические]. – Стокгольм, 5-е изд., И. Геце и Институт перевода Библии, 1988, с. 21. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:08 10.12.2008, 14:08
Сообщение
#399
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Глава XXI. Так зародилась горьковщина
«В последнее время <…> надежда на «возрождение наше к жизни светлой и человеческой» все чаще сказывается в произведениях Горького <…> для Горького главное: чтобы люди стали счастливы, чтобы женщин не били ногами в живот, чтобы не швыряли в отцов кирпичами, чтобы не истязали детей». К. И. Чуковский[1] В статье о Горьком Чуковский использует термин «горьковщина». Аналогично, в статье о Маяковском он использует термин «маяковщина». Сегодня, по печальной исторической памяти процессов тридцатых годов и различных огульных обвинительных кампаний советского времени, подобные термины невольно воспринимаются нами с привычным отрицательным осуждающим подтекстом только по своему фонетическому звучанию. Напомню, что в конце двадцатых уже самого Чуковского клеймили за «чуковщину». Однако статьи Чуковского писались еще в начале 20-х годов, и ни малейшего мотива осуждения подобные термины в себе тогда еще не несли. Чуковский просто использовал их в том же философском смысле, как используется, например, термин «ницшеанство». То есть для обозначения проповедуемой кем-либо определенной системы взглядов на окружающий мир: «<…> проверив себя до конца, отдав себе ясный отчет во всех своих литературных и нелитературных симпатиях, я, к своему удивлению, одинаково люблю обоих: и Ахматову и Маяковского, для меня они оба свои <…> Не все же в маяковщине хаос и тьма. Там есть свои боли, молитвы и правды»[2]; «Вот еще когда проявилась в ребенке та романтика бури и бунта, та г о р ь к о в щ и н а, которая впоследствии, в предреволюционную пору, создала в нашей литературе эпоху»[3]. Как видим, ни малейшей тени осуждения Маяковского и Горького в данных цитатах нет. Аналогичные термины использовали в то время и другие литературные критики, например: «Толстовство, а затем <…> «чеховщина» отражали и выражали всю ту однообразную картину минувшей эпохи безвременья с ее мучительным неотвязноноющим вопросом: «Что же дальше?»»[4]. Только после окончательного утверждения в СССР единственно правильного и верного учения, обладающего монополией на истину, любая «имярекщина» стала означать не просто чью-либо систему взглядов, а именно взгляды противоречащие текущей политике партии и правительства. __________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 339. [2] Чуковский К. И. Ахматова и Маяковский. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 334. [3] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 337. [4] Герасимов Л. Литературные заметки: М. Арцыбашев. Рассказы. Том II. // Пробуждение. – 1906. – № 23. – Приложение: Хрестоматия. – С. 1. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
 10.12.2008, 14:11 10.12.2008, 14:11
Сообщение
#400
|
|
 Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 10.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 13 |
Цитата IV.XXI.1. Контекст фразы о "горьковщине" таков. Анализируя психологию Горького, Корней Иванович пишет: "Смутно ощущая в себе какие-то растущие, необыкновенные силы, зовущие к необыкновенным деяниям, он, мальчик, в мессианском порыве, уже нередко мечтает каким-нибудь фантастическим подвигом спасти и себя и их, вырвать всех из этого звериного быта, или – как пишет он в повести – "дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы все и сам я – завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной". Так зародилась горьковщина". Итак, "горьковщина" в контексте статьи К.И. Чуковского – мессианство с обратным знаком. Антимессианство. Если развить эту мысль далее (антимессия = антихрист), то следует отметить, что исследователи-булгаковеды усмотрели мессианство в образе Мастера, однако за исключением М. О. Чудаковой, подметившей в таком мессианстве элементы негативизма ("Мастер тоже в плаще с кровавым подбоем"), восприняли его в рамках общепринятой позитивной трактовки этого образа, вследствие чего этот тезис своего дальнейшего развития не получил. Если же принять, что прототипом образа Мастера послужил Горький, то, с учетом приведенных выше наблюдений его современников, отмеченный М. О. Чудаковой "кровавый подбой" сразу же приобретает зловеще-конкретный, "антимессианский" смысл. И вот именно такое "антимессианство", ведущее к трагическим последствиям, о которых Чуковский во время написания своей статьи мог только предполагать, но которые в полной мере проявились в период создания Булгаковым своего романа, действительно могло (и должно было) стать основой одного из этических пластов произведения, подводящего итог всей жизни писателя. Я думаю, что к контексту фразы о «горьковщине» нужно добавить, как минимум, эпиграф и преамбулу к данной главе. Соответственно, никакого отрицательного знака в мессианстве Горького по Чуковскому нет и развивать эту мысль, вернее ее отсутствие у нас нет никакой нужды. Поэтому нет никакой нужды и в обсуждении здесь притянутых Барковым за уши «трагических последствий» и «этических пластов». Под «горьковщиной» Чуковский понимает философию, а не психологию Горького. Он прямо задается вопросом: «Как могла возникнуть такая философия?»[1] И ответу на него посвящает весь следующий раздел, который и заканчивает следующими словами: «– Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления… и трудно понять, – что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью… Это мне ясно, – не хочу. То жалея, то ненавидя их, смутно ощущая в себе какие-то растущие, необыкновенные силы, зовущие к необыкновенным деяниям, он, мальчик, в мессианском порыве, уже нередко мечтает каким-нибудь фантастическим подвигом спасти и себя и их, вырвать всех из этого звериного быта, или – как пишет он в повести – «дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы все и сам я – завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной».Так зародилась горьковщина»[2]. _______________________________________________________________________ [1] Чуковский К. И. Две души М. Горького. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1990, с. 350. [2] Там же, с. 353. -------------------- Уж вы мне верьте, - добавил кот, - я форменный пророк
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 2:49 |